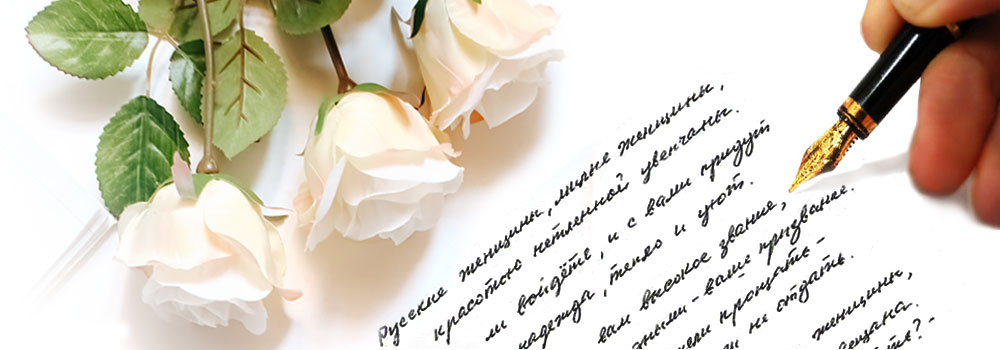
Юлия Буртовая

Фильтр
Здесь будет публиковаться наша совместная книга в соавторстве со Светланой Куда:
«На перекрёстке двух судеб: Исторические судьбы сёл Верхняя Платовка и Мамалаевка Оренбургской губернии в книгах Юлии Буртовой и Светланы Куда».
Негасимый свет под Покровом. Настоятели храма.
Постановление об открытии храма Покрова Пресвятой Богородицы датируется 8.08.1944 г. Открылся он одним из первых в области.
Настоятелем стал Акашев Стефан Михайлович.
При составлении своего послужного списка 26.12.1944 года о. Стефан напишет:
"Ноября 24 дня 1943 г. мною, на имя святейшего Сергия, Патриарха Московского и Всея Руси, подано было прошение о назначении штатным священником в село Верхняя Платовка Покровского района Чкаловской Епархии.
Декабря 30 дня 1943 года, получив справку о моём назначении от 17 декабря 1943 года за номером 948, я 23 января 1944 года выехал из Ухты к месту моего служения. И только после упорных трудов по сооружению заброшенного храма приступил к совершению церковных служб и исполнению религиозных обрядов. Акашев Стефан."
Митрофорный протоиерей Акашев Стефан Михайлович, иеромонах (в тайном постриге Серафим) — человек удивительной и сложной судьбы.
Забегая наперёд, скажу, что мне посчастливилось познакомиться с внучкой о. Стефана Натальей Ивановной Акашевой и внуком Александром Ивановичем Акашевым. В мае 2025 года в городе Оренбурге состоялась встреча с Александром и его женой Ириной. Они приезжали из Екатеринбурга посетить места, где жил и служил их дедушка, вспомнить свои детские годы. Передали в дар, для благих начинаний, тетрадь, в которой о. Стефан своей рукой составил свой послужной список и автобиографию. Семья эти документы обнаружила в иконе о. Стефана. В своём повествовании я возьму их за основу. И от имени семьи хочется сказать, что они настаивают на том, чтобы об их семье перестали писать ложь, домыслы и прочую нелепицу. И чтобы «писаки» прекратили порочить доброе имя членов их семьи, а именно их бабушку Наталью Романовну Галах (Акашеву). В браке о. Стефана и Натальи Романовны родилось двое детей: Нина 1924 г. и Иоанн 1927 г. Акашев был арестован в 1930 г. При тяжёлых жизненных обстоятельствах, при реальной угрозе жизни детей, Наталья Романовна в мае 1936 г. официально выходит замуж. В 1938 г. в официальном браке родился сын Александр. И этому всему есть документальное подтверждение. Андрей Лукич Галах, муж Натальи Романовны, должность председателя не занимал, фронтовик, осуждён никогда не был. Александр Андреевич Галах находится в почтенном возрасте, проживает в кругу большой, дружной и любящей семьи в Екатеринбурге.
В автобиографии своей рукой о. Стефан напишет:
"Акашев Стефан Михайлович, 1900 года рождения, русский, уроженец села Мамалаевка, Переволоцкого района, Чкаловской области.
Данные из послужного списка:
Сын священника, имущества нет, образование среднее. Учился в Оренбургском Духовном училище и в Духовной семинарии с 1909 года по 1918 год включительно.
С 1919 года по май 1922 года состоял на службе в Р.К.К.А.
В церковный брак вступил в 1921 году 16 октября.
Рукоположен в сан дьякона в 1924 году 22 октября, Яковом Епископом Оренбургским, к церкви св. Хр. Николая в Хутор Кувай Покровского района.
В 1925 году 27 сентября тем же Епископом рукоположен в сан священника к церкви Успения Пресвятой Богородицы в село Санниково Васильевское Ново-Сергеевского района Оренбургской Епархии.
В марте 1928 года Дионисием Архиепископом Оренбургским перемещён к Михайло-Архангельской церкви в село Герасимово, Илекского района.
В январе 1930 года Павлом Епископом Оренбургским перемещён к церкви Покрова Пресвятой Богородицы в село Верхняя Платовка, Покровского района.
С 23 марта 1930 года, по соизволению Божьему и сложившимся жизненным обстоятельствам, священнослужение было прервано. До 1944 года по независящим от меня причинам с 1930 года по 1944 год местожительство имел остров Вайгач за Полярным кругом. Находился 5 лет 1/2 месяца в КОМИ А.С.С.Р, р. посёлок Ухта 8 лет 1/2 месяца."
В автобиографии напишет, что был осуждён по 58 ст. УК РСФСР, сроком на 10 лет. Во время всего срока заключения находился на ответственных хозработах.
Печально известная 58 ст. УК РСФСР. На сленге лагерного начальства заключённые по этой статье именовались «контрой» или врагом народа. Этот ярлык навешивался и на членов семьи.
Историческая справка: остров Вайгач.
В июле 1930 года на острове Вайгач в бухте Варнек высадилась Вайгачская экспедиция ОГПУ. Основной состав экспедиции составляли заключённые, осуждённые по различным пунктам статьи 58 Уголовного кодекса.
Некоторые факты об экспедиции в 1930 году:
Начальником был назначен Фёдор Эйхманс, бывший первый комендант Соловецкого лагеря особого назначения.
Первую зимовку на острове пережили 132 человека, из которых 125 были заключёнными.
К ноябрю 1930 года в посёлке построили радиостанцию, столовую, домик начальника экспедиции и его помощников, медпункт и бараки.
Предполагалось, что на острове есть залежи золота, серебра и платины. Но вместо этого заключённые нашли свинцово-цинковые руды и десятки древних ненецких идолов.
В 1930–1932 годах профессор Павел Виттенбург и его коллеги нашли на Вайгаче 518 рудных точек с присутствием меди, свинца, цинка, германия, бора и фтора.
КОМИ А.С.С.Р, посёлок Ухта.
Население треста, с учётом "колонизованных" из освобождённых заключённых и спецпереселенцев, составляло около 25 тыс. человек.
На этом этапе главной сферой деятельности треста было производственное и жилищное строительство и разведка полезных ископаемых — нефти, угля, природного газа, редкоземельных металлов.
В таких тяжелейших условиях отбывал ссылку о. Стефан.
Как же жила семья «Врага народа»?
Годы жизни: 1902 -1991 гг. Наталья Романовна родилась в большой крестьянской семье. В начале XVIII века её бабушка и дед были переселены в Оренбуржье из Воронежской губернии. Она была поздним ребёнком, родители были уже в сорокалетнем возрасте. У неё были три старшие сестры (одну из них звали Нелли. Нелли Романовна умерла в конце 1970 г. Была насельницей обители при о. Стефане. Похоронена в Верхней Платовке), они были намного её старше. Один из её племянников — Сергей Анисимович, был ей ровесником.
В 1921 г. Наталья Романовна вышла замуж за Акашева Степана Михайловича. В 1924 г. 27 января у них родилась дочь Нина. В 1927 г. 27 февраля родился сын Иван.
В 1930 году Степан Михайлович был арестован как священнослужитель, осуждён как враг народа по статье 58 УК РСФСР. Наталья Романовна была выселена с детьми из дома, лишена всего имущества. У них осталась только та одежда, что была на них. Жила с детьми поочерёдно в семьях своих сестёр. Приходилось часто менять место проживания, так как власть начинала притеснять и их тоже за пособничество семье врага народа. Оказывать такую помощь было очень опасно, за это могли арестовать, а в каждых семьях были дети. На свой страх и риск семья от них не отказалась. В колхоз её не принимали, работать ей было негде. Правление колхоза использовало её в качестве бесплатного курьера. Выживала за счёт своих умений прясть, вязать, ткать. Изготовленные вещи возила продавать в Оренбург на рынок. К труду Наталья Романовна была приучена с детства. В их семье был один мужчина — это отец. Всю работу по хозяйству делали женщины. Хозяйство в родительском доме было немалое. Были лошади, несколько быков, коровы. Держали свиней, барашек не меньше 30 штук, а уж птицу никто и не считал. Землю под зерновые брали в аренду у казаков. Такая трудовая закалка помогла выжить в сложные годы и спасти детей.
Один из многочисленных родственников имел доступ к документам, печатям и помог ей. Член семьи пошёл на преступление, тайно сделал паспорт на чужое имя. Наталья Романовна смогла тайком уехать в Ташкент и устроилась на работу в аптеку мойщицей тары из-под лекарств. Она была добросовестной работницей, и зав. аптеки решила принять её в профсоюз, но для этого нужна была характеристика с предыдущего места работы. У Натальи не было возможности предоставить характеристику, а зав. аптеки настаивала, и ей пришлось уволиться и уехать домой, пока зав. аптеки не донесла на неё и ею не заинтересовались в НКВД. Наталья была рада, что смогла заработать немного денег и не с пустыми руками вернулась к детям.
На тот момент они проживали в селе Дедово Чкаловской области. В мае 1936 года к ней официально, при родственниках, посватался сельчанин Андрей Лукич Галах. Состоялся семейный совет. Сёстры и зятья уговаривали её на брак. Наталья Романовна была обессилена постоянными притеснениями, угроза ареста была колоссальная, жить было не на что. Она очень боялась, что, если её арестуют, что будет с детьми «врагов народа». Сына Ивана выгнали из школы в 3-м классе, сказав, что «поповичу и этого много». Нину и Ивана постоянно дразнили и пугали преследованиями, если вдруг случится что-то подозрительное. Жить в таких условиях было невыносимо. Наталья Романовна официально выходит замуж. Из бесправной лишёнки стала гражданкой Галах. Поменялся статус, притеснения прекратились, от детей отстали. Было принято решение детей священнослужителя записать на фамилию Галах и поменяли отчество на Андреевичей. (Об этом свидетельствуют учётные книги колхоза, в которых отмечались трудодни). В 1938 г. 5 августа у них родился сын Александр. В Отечественную войну Андрей Галах воевал, был ранен, приезжал в отпуск по ранению. После войны он вернулся, но к этому времени Наталья Романовна окончательно решила, что она его не любит и не захотела с ним жить, и они расстались. Он нашёл себе другую женщину. Наталья Романовна с детьми переехала жить в посёлок Переволоцк Чкаловской области, Галах остался жить в Дедово. С ним они больше не встречались, сыну Александру было сказано, что отец погиб на войне. Наталья Романовна с детьми скрывалась от преследований под фамилией Галах. Нине и Ивану было категорически запрещено говорить, что они дети священнослужителя. Лишь при получении паспортов по свидетельствам о рождении была восстановлена фамилия Акашевы и отчество Степановичи. Иван и Нина добрым словом всегда вспоминали Андрея Лукича. Он их не обижал, помогал, поддерживал. Не побоялся в тех обстоятельствах жениться на жене «врага народа» и воспитывать его детей.
Зимой 1944 г. наш дедушка о. Стефан возвращается из ссылки. Он получил справку о назначении штатным священнослужителем в село Верхняя Платовка Покровского района Чкаловской области. Вернувшись в родные края из Ухты, он первым делом разыскал членов своей семьи. Мы не подтверждаем тот факт, что он состоял в переписке с Натальей Романовной. Это было очень опасно и чревато последствиями. С момента ареста они были в неведении, как друг у друга складывалась судьба и живы ли. Это была тяжелейшая встреча. Изнурённые лишениями, прошедшие через тяжелейшие испытания, но не сломленные духом люди. Когда дедушку арестовали, дочери Нине было 6 лет, сыну Ивану (нашему отцу) было 3 года, а вернулся он через 14 лет. Дети уже взрослые. Наш дедушка ни в чём не винил мать своих детей, он ей был благодарен за её силу духа. Она пожертвовала всем ради спасения детей. Около двух дней он прожил у сестёр Натальи Романовны и убыл к месту назначения. После этой встречи он принимает решение о достижении пострига в монашество и посвящает всю свою жизнь служению. В дальнейшем ещё много испытаний выпало на его долю, доносы, клевета преследовали его до конца жизни. Но он никогда не боялся отстаивать свою позицию, был очень образованным человеком. Отслеживал политическую обстановку в стране и следил за изменениями в законах, касающихся Русской православной церкви.
В феврале 1945 года Ивану Степановичу исполнилось 18 лет, и его призвали в армию, но не отправили на фронт, а направили на учёбу в ФЗУ в городе Магнитогорске на мастера по ремонту доменных печей. После окончания ФЗУ Ивана Степановича распределили на работу в Свердловск на Уралдомноремонт. Когда он решил привезти к себе мать Наталью Романовну и брата Александра, ему дали отдельную комнату. Так семья в 1948 году переехала в Свердловск. Наталья Романовна более ни разу не приезжала на малую Родину. К тому времени Нина Степановна вышла замуж, через год женился и Иван Степанович, мой папа. Мы очень часто с папой навещали дедушку о. Стефана в Верхней Платовке и впоследствии бывали у него в с. Заплавное. Дедушка очень любил фотографироваться и при каждой встрече посещали фотоателье. Мы хорошо помним, что в обители в селе Верхняя Платовка проживала сестра бабушки Нелля Романовна и брат дедушки Дмитрий Степанович. Он был очень мастеровой.
В семье сына Наталья Романовна прожила до 1977 года, затем переехала к дочери и прожила до 1991 г. У Нины Степановны детей не было, подорвала здоровье в годы войны. До 1975 года она проживала в частном доме в Оренбурге. В этом доме у о. Стефана своя комната (её называли келья). В апреле 1975 года ушёл из жизни наш дедушка, родители ездили на похороны. Дом, в котором проживала Нина, по плану городской застройки попал под снос, государство ей выплатило деньги. В Оренбуржье её больше ничто не держало, она принимает решение о переезде к маме и братьям в Свердловск. Купила небольшой домик и стала жить вместе с мамой. Со своими вещами она перевезла из Оренбургской кельи несколько икон о. Стефана. Несколько лет назад в одной из икон были найдены документы, написанные рукой о. Стефана: послужной список, автобиография и пр. Долгие годы они хранились в объёмной, как короб, иконе и были найдены случайно. Наталья Романовна ушла из жизни 21 мая 1991 года, пережив о. Стефана на 16 лет. Всю себя посвятила детям и внукам. Была очень доброй, душевной и много молилась. Очень любила людей, ни на кого не держала зла, и она простила всех своих обидчиков. Прожила до 89 лет в окружении большой, дружной и любящей семьи.
Наш папа Иван Степанович ушёл из жизни 5 августа 2010 года в возрасте 83 лет. Род Акашевых продолжается по его линии.
Нина Степановна ушла из жизни 2 января 2016 года, ей было 92 года. Она перед смертью открыла тайну Натальи Романовны о том, что Галах Андрей Лукич с фронта вернулся живым. Галах Александр Андреевич жив, находится в почтенном возрасте. Проживает в кругу большой и дружной семьи Галах и Акашевых. Ему очень хочется знать, как сложилась судьба у отца, но поиски в Оренбуржье результатов не приносят.
Мы, члены семьи Акашева Стефана Михайловича, настаиваем на том, чтобы о нашей семье публиковали только правду. Стефан Михайлович и Наталья Романовна — это не вымышленные художественные персонажи, а реальные люди, на чью долю выпали тяжелейшие испытания. Ярчайший пример того, какие лишения выпадали на долю священнослужителей, их жён и детей. В многочисленных публикациях опорочено доброе имя Натальи Романовны, и это последствия политического духа того времени. Умышленно порочили образ «служителей культа», и эта тень падала на жён. Люди, пережившие те страшные годы лихолетья, достойны, чтобы о них говорили правду.
По воспоминаниям и семейным архивам автобиографию предоставляет внучка
Акашева Стефана Михайловича.
Казанцева (Акашева) Наталья Ивановна
г. Екатеринбург
Август 2025 г.
В 1944 г. при составлении послужного списка о. Стефан напишет:
«В моё отсутствие жена моя, Наталья Романовна, в мае 1936 года, нарушив закон церковного брака, вступила во второй брак, гражданского состояния. С момента нарушения церковного брака женою, остаюсь чуждым к семейной жизни и в этом усмотрел призвание Божье к достижению пострига в монашество.
Дети: Дочь Нина 1924 года рождения.
Сын Иоанн 1927 года рождения.»
Запись его рукой о детях — немаловажное подтверждение. Некоторые источники утверждают, что у о. Стефана была одна красавица дочь Нина, а Иван — сын председателя.
В послужном списке о. Стефан напишет: «Декабря 30 дня 1943 года, получив справку о моём назначении от 17 декабря 1943 года за № 948, я 23 января 1944 года выехал из Ухты к месту моего служения и только после упорных трудов по сооружению заброшенного храма 7 апреля приступил к совершению церковных служб и исполнению религиозных обрядов.»
И стар, и млад помогали переносить из храма зерно в амбары. Настоятель запряг лошадь и ездил по селу, стучался в каждый дом и просил вернуть в храм иконы. Искренне благодарил сельчан за спасение икон. В храм принесли много икон из окрестных разрушенных церквей. Верующие ликовали, духовная жизнь возрождалась. Приход становится полнолюдным, это не нравилось местным властям. Да и на местах по собственной инициативе власти не желали признавать послабления для церквей и служителей. Акашев о. Стефан был образованным, начитанным, следил за политической обстановкой в стране и отслеживал все изменения в законодательстве, касающиеся Русской православной церкви.
Семья Акашева предоставила нам документ (найден был в иконе). О. Стефан писал жалобу 7 марта 1945 г. Он даже в таком сложном периоде не побоялся отстаивать свою позицию.
«Уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме Союза С. С. Р. по Чкаловской области
Товарищу Тептяреву.
Священник села Верхняя Платовка
Покровского района, Чкаловской области
Акашев Степан
Как вам известно, что церковь в селе Верхняя Платовка является единственной на несколько районов в Чкаловской области, в которой верующий может получить утешение и облегчение души своей от тяжёлых жизненных испытаний и переживаний, выпавших вследствие войны на каждого из нас. Вам хорошо известно, что не всем верующим имеется возможность ехать в вышеупомянутую церковь ввиду различных складывающихся жизненных причин, а потому среди верующих имеется практика приглашать служителей культа в то или иное селение с тем, чтобы совершать требы и религиозные обряды на местах их жительства. Так и поступили жители села Алексеевка Переволоцкого района. Дав им согласие своё, я, 26 февраля сего года, пришёл в вышеназванное село, предъявил свои документы председателю сельского совета и объяснил цель своего прихода по просьбе верующих удовлетворить духовную потребность верующих масс. Председатель сельского совета, не имея указаний в возможности допустить меня к совершению треб, позвонил по телефону в Переволоцкий райсовет и вместо согласия получил распоряжение изъять мои документы и доставить меня в райсовет. Как видно, т. т. Захарин и Маршинский отстали от жизни, не следят за положением существующих положений в отношении церкви и её служителям в советском государстве и не хотят считаться с интересами верующих и их духовными потребностями. Действия вышеуказанных работников совучреждений считаю делом неправильным, а посему считаю необходимым поставить Вас, председателя Совета по церковным делам товарища Карпов и Главу Правительства маршала Сталина в известность о имеющихся безобразных взаимоотношениях со стороны некоторых работников совучреждений в Чкаловской области, ненормальности в отношении взглядов к церкви и к её служителям, устрашение их, тем самым давить возможность умиротворить обездоленные и униженные чувства верующих. Вознося свои недостойные молитвы к престолу Царя Славы, и испрашиваю Вам здравия, долгоденствия и успеха в плодотворной Вашей работе на благо Родины и процветания Церкви Христовой.
С глубоким уважением и с совершенным почтением к Вам
Священник Акашев Степан Михайлович
7 марта 1945 год».
Из Архивной справки от 11.11.1947 г.
1946 — была построена ограда вокруг храма.
1947 г. — построен дом священника.
1947 г. — заменили всю кровлю, покрыли железом и покрасили.
Построена колокольня, застеклили рамы и покрасили, покрасили полы. Устроена главка и алтарь.
Формировалась большая монашеская община. О. Стефан был очень сильный духовник. Следил за политической обстановкой в стране. Каждое утро приходил к репродуктору, слушал новости. Куликова (Федюнина) Лидия Кузьминична поделилась воспоминаниями. Она работала в правлении, а о. Стефан приходил сдавать налог. Оставлял и уходил. Она пересчитывала, а там всегда были лишние деньги. Она сказала о. Стефану, а он сказал, что там всё ровно, он сам считал: «Где излишек, там и недостача!» Она посоветовалась с мамой, как же быть. Клавдия Васильевна сказала: принимай сколько положено, а излишек носи и клади в кружку храма. Так и делала.
Летом 1945 г. состоялась в Верхней Платовке историческая встреча о. Стефана и епископа Мануила. Он приехал до станции Платовка, шёл пешком через Нижнюю Платовку в Верхнюю. Расстояние пути чуть более 7 км. Дорогу устлали травой, через небольшие промежутки стояли группами верующие. Епископ был так вдохновлён встречей, что снял с себя крест с мощами и одел на о. Стефана со словами: «Дарю тебе самое ценное, что имею!» Точная дата принятия монашества неизвестна, но это было при епископе Мануиле, возглавлявшем епархию с 1945 по 1948 г. О. Стефан в тайном постриге Серафим.
Приезжал в гости к о. Стефану протоиерей Феодор, настоятель Керченского храма Иоанна Предтечи. По преданию они познакомились в ссылке. Он попросил о. Стефана взять к себе своего послушника. Протоиерей Феодор, прожив при храме, отошёл ко Господу. Похоронен в ограде нашего храма. Об о. Стефане с нами поделился воспоминаниями Давыдов Владимир Васильевич. О. Стефан был в хороших отношениях с его отцом-фронтовиком, часто бывал у них в бане, вели долгие разговоры о прошедшей войне. В один из таких приходов он застал Владимира Васильевича в критичном состоянии, была сильная скарлатина, а помощи было ждать неоткуда. О. Стефан взялся за врачевание и спас ребёнка.
Жители вспоминают, что о. Стефан с послушниками на празднование Пасхи ходили по домам и поздравляли. У них были большие корзины, в которые складывали преподношения и из этих же корзин раздавали преподношения сами. Власти запретили такие хождения по домам.
Многие подтверждают тот факт, что при о. Стефане в ограде храма, по всему периметру благоухали жёлтые розы!
Примерно в 1955 г. в Верхнюю Платовку приехал послушник протоиерея Феодора Григорий Иванович Петренко.
Петренко Григорий Иванович.
Родился 7 сентября 1930 года в местечке Катерлез, современное село Войково, в 4 км от Керчи.
Мама — Мария, отец — Иван, брат — Павел и сестра — Надежда. Павел впоследствии неоднократно навещал Григория в Верхней Платовке. Отец Григория воевал на фронте в пехоте, а затем военным санитаром. Семья претерпела все лишения военных лет.
Григорий познакомился с протоиереем Феодором, когда тот был настоятелем в Керченском храме Иоанна Предтечи. Стал постоянным прихожанином. Помогал в алтаре и церковной лавке. Распознал в Григории стремление послужить Богу. Он ходатайствовал за него, и так дорога привела его в наш храм!
При Хрущёве гонения на церковь вновь усилились, на священников клеветали, вынуждали отречься публично, принудительно закрывали храмы. К примеру, документальное подтверждение: исполком Новосергиевского района 26.09.1963 г. посылал ходатайство от комсомольской организации колхоза «Восточный», коллектива Платовской 8-летней школы и 13 заявлений граждан В-Платовки с требованием закрытия церкви и её сноса. Всё это сохранилось в архивах. Приход при храме был многолюдным и активным. Властям это не нравилось, придирались по каждой мелочи. А особенно властям не нравился настоятель о. Стефан. В 1964 году Акашева обвинили в даче взятки фининспектору и запретили служение.
В сентябре 1964 года Григорий Иванович Петренко вместе со своим духовным отцом приехали в Оренбургскую епархию к владыке Леонтию с просьбой о рукоположении в священнослужители.
Сначала уполномоченный совет по делам РПЦ в Оренбургской области был против, но потом, посмотрев на «кандидата», разрешил: мол, толку всё равно не будет. Священники тоже высказались против: необустроенный, необразованный, да и простоватый, а времена тяжёлые — вдруг не выдержит?
На все доводы Владыка Леонтий сказал: «Я недоволен вашими ответами, поговорю ещё раз с духовным отцом!»
Владыка вызвал о. Стефана и спросил: «Может ли он стать священником?»
О. Стефан подумал и твёрдо сказал: «МОЖЕТ!»
Владыка сказал Григорию лишь одно слово: «ГОТОВЬСЯ!»
О. Григорий 11.09.1964 г. рукоположен в сан дьякона, 12.09.1964 г. рукоположен в священники.
С 1964 г. по 1970 г. о. Стефан был рядом с ним. Они жили в одной келье в небольшой постройке около храма. В годы своего запрещения о. Стефан пел на клиросе, помогал в алтаре. Очень сильно переживал, до слёз. Протоиерей Стефан был решительным и строгим: они много молились и строго постились. В Верхней Платовке о. Стефан начал отчитывать, делал тайно. Когда его перевели в село Заплавное Куйбышевской епархии, отчитывал в открытую. Отец Григорий часто навещал своего духовного отца в Заплавном, пока тот не отошёл ко Господу 11 апреля 1975 г. В этом году, 2025, — 50 лет памяти.
В этом храме о. Григорий прослужил 46 лет. Большой полнолюдный приход. Добрая слава о храме и священнослужителе облетела всю Россию. В храм не только приезжали, но и приходили пешком в большом количестве странники и странницы. Храм долгие годы оставался единственным на всю округу. Из близлежащих сёл были молельные дороги, по которым годами верующие ходили пешком. Одна такая тропинка шла через поле, но трактористы, доезжая до неё, всегда поднимали плуг. Тропу через поле не перепахивали. По большим праздникам прихожане не вмещались в храме, стояли в ограде и за оградой. Люди были готовы неделями ждать приёма к прозорливому старцу. Исцелял, сбылись и сбываются многочисленные пророчества. Конечно, приезжали и такие, кто пытался требовать, был настойчив: «Батюшка, ну скажите, ну ответьте. Мы же задали вопрос!» Отец Григорий был рад всем. Одно из пророчеств касается села Верхняя Платовка. Отец Григорий пророчил: «Село будет вновь полнолюдным, людей будет словно кур в курятнике, места хватать не будет. Жить будут на чердаках.» Награждения: митры, набедренник, крест с каменьями, благословение служить с открытыми вратами. На исповедь всегда была большая очередь, перед о. Григорием все опускались на колени и ловили каждое слово, что он говорил. Это было бесценно. Бывший насельник обители при о. Григории поделился воспоминаниями, которым он был свидетелем. И этот духовный дар он несёт по своей жизни. Георгий Аникеев поведал, что приехал к о. Григорию молодой парень. Он приехал за советом к прозорливому старцу, как строить свою жизнь. Он был начинающим художником и в 18 лет стоял на перепутье. Он в порядке очерёдности подошёл на исповедь, опустился на колени и поведал цель своего приезда. О. Григорий его выслушал, задал несколько вопросов. А полный ответ как духовный дар подарил всем находящимся в храме.
«Посмотрите на плуг, которым пашут землю. Им, когда пашут, он беленький, гладенький. На него приятно смотреть, его хочется поцеловать. Он людей кормит. А когда плугом не пашут, он стоит ржавый и имеет неприглядный вид!»
Чтобы поведать о служении о. Григория, о всех насельниках обители и чудесах, которым они были свидетелями, необходим цикл книг. При о. Григории по старым традициям на Крещение Господне рубили Иордан, на Рождество толпы христославцев ночь напролёт ходили по домам. В церкви всегда происходила заготовка льда для хранения просфор. В сильную метель звонили в колокола, при больших пожарах так же звонили в колокола и выносили из церкви иконы и с ними ходили вокруг горящего здания. Был поздний зимний вечер. Горело помещение бывшей колхозной конторы. Здание было большое, деревянное, огонь сильно бушевал. Звонил колокол, сбежались все сельчане. Из горевшего здания пытались спасти инвентарь медпункта. Суета, крики. И вдруг послышалось пение, и все увидели насельниц обители. Они пели молитву и несли иконы. Чтобы обогнуть пожар по кругу, нужно было большой полукруг обогнуть по глубокому снегу. Женщины, не мешкая ни секунды, запели молитву ещё громче, прижали иконы к груди и в длинных юбках стали пробираться по глубокому снегу. Таких кругов они сделали не менее четырёх. От пожара никто не пострадал.
При о. Григории было большое хозяйство. На хоздворе были коровы, быки, имели лошадь и повозку. Содержали огороды. Жизнь в обители кипела. В преклонном возрасте о. Григорий страдал диабетом. У него был собственный повар Фатиния, готовила необходимую при таком заболевании пищу. И сейчас трапезная поддерживает монастырские уставы, не подаётся мясо. На данный момент многое что функционирует так, как благословил о. Григорий. Все посты строго соблюдаются. У о. Григория был и свой келейник, который, если требовалось, оказывал и медицинскую помощь. О. Григорий всегда говорил: «Молитесь, повернувшись на восток. На востоке престол, на востоке все святые!»
В последние годы пребывания о. Григория в храме с ним служил дьякон иерей Сергий Григорьев. При нём деревянное облачение храма покрыли сайдингом. В главке произвели ремонт, старинную роспись закрыли листами и нанесли новую роспись. Были заменены колокола, построена новая просфорня. Была разобрана слесарная мастерская, в которой ещё трудился брат о. Стефана Акашева, Дмитрий. Слесарня обслуживала потребности храма, и там так же изготавливали гробы и кресты, которые хранили в подвале под храмом. Нуждающаяся семья могла обратиться, и храм выдавал. Ограду храма обнесли забором из сетки, иерей радел за липовую аллею. На пустующей земле Владимир Дедловский посадил ели.
Было большой утратой, когда о. Григорий покидал обитель.
Указом митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина от 16.05.2006 года был освобождён от должности настоятеля храма и назначен исполнять пасторские обязанности в Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия п. Саракташ. Ушёл из жизни 26 сентября 2021 г. В священном сане прослужил 57 лет.
Чудотворные иконы храма.
Сегодня в храме находится несколько икон, имеющих славу чудодейственных. В том числе список с иконы Божией Матери «Достойно есть», написанная на Афоне и особенно почитаемая в Оренбуржье. Её сила впервые явилась, когда её пытались перевезти в собор областного центра. Епископ Мануил (Лемешевский), увидев эту икону, сказал, что ей место в Кафедральном Никольском соборе г. Оренбурга, на то время единственном в Оренбуржье.
Ни повозка, ни машина не смогли выехать за пределы села. Владыка был духовным человеком, узнав об этом, сказал: «Пусть икона будет там, где Божья Матерь ей определила место». Было принято решение икону более не беспокоить. Икона ни разу не реставрировалась, не была под стеклом. Состояние словно она написана несколько месяцев назад. Есть предание о том, что из села Кулагино на Афон ушёл пешком парень, принял монашество. В утешение родителям прислал эту икону.
Есть предание о том, что в годы гонений этой иконой накрывали ларь с зерном, таким образом её спасли. Точной даты нет, когда икона попала в наш храм. По одним источникам её привезли с Афона в 1887, по другим — в 1901 г.
Ко встрече с иконой паломникам рекомендуется читать утреннее правило, а следом – Богородичное. Считается, что его исполнение важнее акафистов. Паломники рассказывают, что кому-то она помогла выйти замуж, кому-то вопреки врачебным показаниям позволила родить здорового ребёнка, кому-то помогла выбраться из сложной жизненной ситуации.
Ещё одна чудотворница – Табынская икона. Это копия со знаменитой уральской святыни. В период гонений на церковь её укрывала у себя одна семья. Люди были воцерковлённые, бережно хранили, молились на неё. И всё же в новом поколении появился в семье активист-иконоборец. В яростном порыве попытался он прибить икону на собственные ворота. Но не довёл задуманного до конца, упал замертво. Родственники передали икону в Храм.
В Храме постепенно оказалось немало святынь из местных разорённых храмов. Например, знаменитая икона святителя Николая Чудотворца. Как известно, детям он особенно покровительствует. Есть история, что трое местных ребятишек увидели на Николу-Зимнего, как у святого текут слёзы. Только не сверху вниз, а наоборот. Взрослые чуда не видели, но любой ребёнок до 7 лет может его лицезреть. Когда-то эта икона при свидетелях исцелила женщину, страдающую постоянными обмороками. Её привезли в Храм на праздник Святого Пророка. Она приложилась к иконе, исповедалась, причастилась. Её помазали маслом из лампады, и она буквально за секунды исцелилась.
Духовные чада о. Григория часто вспоминают. Когда просили благословение ехать молиться по святым местам, он говорил:
«Молитесь дома. Здесь вам и Иерусалим, здесь вам и Дивеево!»
Светлана Куда
Настоятелем стал Акашев Стефан Михайлович.
При составлении своего послужного списка 26.12.1944 года о. Стефан напишет:
"Ноября 24 дня 1943 г. мною, на имя святейшего Сергия, Патриарха Московского и Всея Руси, подано было прошение о назначении штатным священником в село Верхняя Платовка Покровского района Чкаловской Епархии.
Декабря 30 дня 1943 года, получив справку о моём назначении от 17 декабря 1943 года за номером 948, я 23 января 1944 года выехал из Ухты к месту моего служения. И только после упорных трудов по сооружению заброшенного храма приступил к совершению церковных служб и исполнению религиозных обрядов. Акашев Стефан."
Митрофорный протоиерей Акашев Стефан Михайлович, иеромонах (в тайном постриге Серафим) — человек удивительной и сложной судьбы.
Забегая наперёд, скажу, что мне посчастливилось познакомиться с внучкой о. Стефана Натальей Ивановной Акашевой и внуком Александром Ивановичем Акашевым. В мае 2025 года в городе Оренбурге состоялась встреча с Александром и его женой Ириной. Они приезжали из Екатеринбурга посетить места, где жил и служил их дедушка, вспомнить свои детские годы. Передали в дар, для благих начинаний, тетрадь, в которой о. Стефан своей рукой составил свой послужной список и автобиографию. Семья эти документы обнаружила в иконе о. Стефана. В своём повествовании я возьму их за основу. И от имени семьи хочется сказать, что они настаивают на том, чтобы об их семье перестали писать ложь, домыслы и прочую нелепицу. И чтобы «писаки» прекратили порочить доброе имя членов их семьи, а именно их бабушку Наталью Романовну Галах (Акашеву). В браке о. Стефана и Натальи Романовны родилось двое детей: Нина 1924 г. и Иоанн 1927 г. Акашев был арестован в 1930 г. При тяжёлых жизненных обстоятельствах, при реальной угрозе жизни детей, Наталья Романовна в мае 1936 г. официально выходит замуж. В 1938 г. в официальном браке родился сын Александр. И этому всему есть документальное подтверждение. Андрей Лукич Галах, муж Натальи Романовны, должность председателя не занимал, фронтовик, осуждён никогда не был. Александр Андреевич Галах находится в почтенном возрасте, проживает в кругу большой, дружной и любящей семьи в Екатеринбурге.
В автобиографии своей рукой о. Стефан напишет:
"Акашев Стефан Михайлович, 1900 года рождения, русский, уроженец села Мамалаевка, Переволоцкого района, Чкаловской области.
Данные из послужного списка:
Сын священника, имущества нет, образование среднее. Учился в Оренбургском Духовном училище и в Духовной семинарии с 1909 года по 1918 год включительно.
С 1919 года по май 1922 года состоял на службе в Р.К.К.А.
В церковный брак вступил в 1921 году 16 октября.
Рукоположен в сан дьякона в 1924 году 22 октября, Яковом Епископом Оренбургским, к церкви св. Хр. Николая в Хутор Кувай Покровского района.
В 1925 году 27 сентября тем же Епископом рукоположен в сан священника к церкви Успения Пресвятой Богородицы в село Санниково Васильевское Ново-Сергеевского района Оренбургской Епархии.
В марте 1928 года Дионисием Архиепископом Оренбургским перемещён к Михайло-Архангельской церкви в село Герасимово, Илекского района.
В январе 1930 года Павлом Епископом Оренбургским перемещён к церкви Покрова Пресвятой Богородицы в село Верхняя Платовка, Покровского района.
С 23 марта 1930 года, по соизволению Божьему и сложившимся жизненным обстоятельствам, священнослужение было прервано. До 1944 года по независящим от меня причинам с 1930 года по 1944 год местожительство имел остров Вайгач за Полярным кругом. Находился 5 лет 1/2 месяца в КОМИ А.С.С.Р, р. посёлок Ухта 8 лет 1/2 месяца."
В автобиографии напишет, что был осуждён по 58 ст. УК РСФСР, сроком на 10 лет. Во время всего срока заключения находился на ответственных хозработах.
Печально известная 58 ст. УК РСФСР. На сленге лагерного начальства заключённые по этой статье именовались «контрой» или врагом народа. Этот ярлык навешивался и на членов семьи.
Историческая справка: остров Вайгач.
В июле 1930 года на острове Вайгач в бухте Варнек высадилась Вайгачская экспедиция ОГПУ. Основной состав экспедиции составляли заключённые, осуждённые по различным пунктам статьи 58 Уголовного кодекса.
Некоторые факты об экспедиции в 1930 году:
Начальником был назначен Фёдор Эйхманс, бывший первый комендант Соловецкого лагеря особого назначения.
Первую зимовку на острове пережили 132 человека, из которых 125 были заключёнными.
К ноябрю 1930 года в посёлке построили радиостанцию, столовую, домик начальника экспедиции и его помощников, медпункт и бараки.
Предполагалось, что на острове есть залежи золота, серебра и платины. Но вместо этого заключённые нашли свинцово-цинковые руды и десятки древних ненецких идолов.
В 1930–1932 годах профессор Павел Виттенбург и его коллеги нашли на Вайгаче 518 рудных точек с присутствием меди, свинца, цинка, германия, бора и фтора.
КОМИ А.С.С.Р, посёлок Ухта.
Население треста, с учётом "колонизованных" из освобождённых заключённых и спецпереселенцев, составляло около 25 тыс. человек.
На этом этапе главной сферой деятельности треста было производственное и жилищное строительство и разведка полезных ископаемых — нефти, угля, природного газа, редкоземельных металлов.
В таких тяжелейших условиях отбывал ссылку о. Стефан.
Как же жила семья «Врага народа»?
Годы жизни: 1902 -1991 гг. Наталья Романовна родилась в большой крестьянской семье. В начале XVIII века её бабушка и дед были переселены в Оренбуржье из Воронежской губернии. Она была поздним ребёнком, родители были уже в сорокалетнем возрасте. У неё были три старшие сестры (одну из них звали Нелли. Нелли Романовна умерла в конце 1970 г. Была насельницей обители при о. Стефане. Похоронена в Верхней Платовке), они были намного её старше. Один из её племянников — Сергей Анисимович, был ей ровесником.
В 1921 г. Наталья Романовна вышла замуж за Акашева Степана Михайловича. В 1924 г. 27 января у них родилась дочь Нина. В 1927 г. 27 февраля родился сын Иван.
В 1930 году Степан Михайлович был арестован как священнослужитель, осуждён как враг народа по статье 58 УК РСФСР. Наталья Романовна была выселена с детьми из дома, лишена всего имущества. У них осталась только та одежда, что была на них. Жила с детьми поочерёдно в семьях своих сестёр. Приходилось часто менять место проживания, так как власть начинала притеснять и их тоже за пособничество семье врага народа. Оказывать такую помощь было очень опасно, за это могли арестовать, а в каждых семьях были дети. На свой страх и риск семья от них не отказалась. В колхоз её не принимали, работать ей было негде. Правление колхоза использовало её в качестве бесплатного курьера. Выживала за счёт своих умений прясть, вязать, ткать. Изготовленные вещи возила продавать в Оренбург на рынок. К труду Наталья Романовна была приучена с детства. В их семье был один мужчина — это отец. Всю работу по хозяйству делали женщины. Хозяйство в родительском доме было немалое. Были лошади, несколько быков, коровы. Держали свиней, барашек не меньше 30 штук, а уж птицу никто и не считал. Землю под зерновые брали в аренду у казаков. Такая трудовая закалка помогла выжить в сложные годы и спасти детей.
Один из многочисленных родственников имел доступ к документам, печатям и помог ей. Член семьи пошёл на преступление, тайно сделал паспорт на чужое имя. Наталья Романовна смогла тайком уехать в Ташкент и устроилась на работу в аптеку мойщицей тары из-под лекарств. Она была добросовестной работницей, и зав. аптеки решила принять её в профсоюз, но для этого нужна была характеристика с предыдущего места работы. У Натальи не было возможности предоставить характеристику, а зав. аптеки настаивала, и ей пришлось уволиться и уехать домой, пока зав. аптеки не донесла на неё и ею не заинтересовались в НКВД. Наталья была рада, что смогла заработать немного денег и не с пустыми руками вернулась к детям.
На тот момент они проживали в селе Дедово Чкаловской области. В мае 1936 года к ней официально, при родственниках, посватался сельчанин Андрей Лукич Галах. Состоялся семейный совет. Сёстры и зятья уговаривали её на брак. Наталья Романовна была обессилена постоянными притеснениями, угроза ареста была колоссальная, жить было не на что. Она очень боялась, что, если её арестуют, что будет с детьми «врагов народа». Сына Ивана выгнали из школы в 3-м классе, сказав, что «поповичу и этого много». Нину и Ивана постоянно дразнили и пугали преследованиями, если вдруг случится что-то подозрительное. Жить в таких условиях было невыносимо. Наталья Романовна официально выходит замуж. Из бесправной лишёнки стала гражданкой Галах. Поменялся статус, притеснения прекратились, от детей отстали. Было принято решение детей священнослужителя записать на фамилию Галах и поменяли отчество на Андреевичей. (Об этом свидетельствуют учётные книги колхоза, в которых отмечались трудодни). В 1938 г. 5 августа у них родился сын Александр. В Отечественную войну Андрей Галах воевал, был ранен, приезжал в отпуск по ранению. После войны он вернулся, но к этому времени Наталья Романовна окончательно решила, что она его не любит и не захотела с ним жить, и они расстались. Он нашёл себе другую женщину. Наталья Романовна с детьми переехала жить в посёлок Переволоцк Чкаловской области, Галах остался жить в Дедово. С ним они больше не встречались, сыну Александру было сказано, что отец погиб на войне. Наталья Романовна с детьми скрывалась от преследований под фамилией Галах. Нине и Ивану было категорически запрещено говорить, что они дети священнослужителя. Лишь при получении паспортов по свидетельствам о рождении была восстановлена фамилия Акашевы и отчество Степановичи. Иван и Нина добрым словом всегда вспоминали Андрея Лукича. Он их не обижал, помогал, поддерживал. Не побоялся в тех обстоятельствах жениться на жене «врага народа» и воспитывать его детей.
Зимой 1944 г. наш дедушка о. Стефан возвращается из ссылки. Он получил справку о назначении штатным священнослужителем в село Верхняя Платовка Покровского района Чкаловской области. Вернувшись в родные края из Ухты, он первым делом разыскал членов своей семьи. Мы не подтверждаем тот факт, что он состоял в переписке с Натальей Романовной. Это было очень опасно и чревато последствиями. С момента ареста они были в неведении, как друг у друга складывалась судьба и живы ли. Это была тяжелейшая встреча. Изнурённые лишениями, прошедшие через тяжелейшие испытания, но не сломленные духом люди. Когда дедушку арестовали, дочери Нине было 6 лет, сыну Ивану (нашему отцу) было 3 года, а вернулся он через 14 лет. Дети уже взрослые. Наш дедушка ни в чём не винил мать своих детей, он ей был благодарен за её силу духа. Она пожертвовала всем ради спасения детей. Около двух дней он прожил у сестёр Натальи Романовны и убыл к месту назначения. После этой встречи он принимает решение о достижении пострига в монашество и посвящает всю свою жизнь служению. В дальнейшем ещё много испытаний выпало на его долю, доносы, клевета преследовали его до конца жизни. Но он никогда не боялся отстаивать свою позицию, был очень образованным человеком. Отслеживал политическую обстановку в стране и следил за изменениями в законах, касающихся Русской православной церкви.
В феврале 1945 года Ивану Степановичу исполнилось 18 лет, и его призвали в армию, но не отправили на фронт, а направили на учёбу в ФЗУ в городе Магнитогорске на мастера по ремонту доменных печей. После окончания ФЗУ Ивана Степановича распределили на работу в Свердловск на Уралдомноремонт. Когда он решил привезти к себе мать Наталью Романовну и брата Александра, ему дали отдельную комнату. Так семья в 1948 году переехала в Свердловск. Наталья Романовна более ни разу не приезжала на малую Родину. К тому времени Нина Степановна вышла замуж, через год женился и Иван Степанович, мой папа. Мы очень часто с папой навещали дедушку о. Стефана в Верхней Платовке и впоследствии бывали у него в с. Заплавное. Дедушка очень любил фотографироваться и при каждой встрече посещали фотоателье. Мы хорошо помним, что в обители в селе Верхняя Платовка проживала сестра бабушки Нелля Романовна и брат дедушки Дмитрий Степанович. Он был очень мастеровой.
В семье сына Наталья Романовна прожила до 1977 года, затем переехала к дочери и прожила до 1991 г. У Нины Степановны детей не было, подорвала здоровье в годы войны. До 1975 года она проживала в частном доме в Оренбурге. В этом доме у о. Стефана своя комната (её называли келья). В апреле 1975 года ушёл из жизни наш дедушка, родители ездили на похороны. Дом, в котором проживала Нина, по плану городской застройки попал под снос, государство ей выплатило деньги. В Оренбуржье её больше ничто не держало, она принимает решение о переезде к маме и братьям в Свердловск. Купила небольшой домик и стала жить вместе с мамой. Со своими вещами она перевезла из Оренбургской кельи несколько икон о. Стефана. Несколько лет назад в одной из икон были найдены документы, написанные рукой о. Стефана: послужной список, автобиография и пр. Долгие годы они хранились в объёмной, как короб, иконе и были найдены случайно. Наталья Романовна ушла из жизни 21 мая 1991 года, пережив о. Стефана на 16 лет. Всю себя посвятила детям и внукам. Была очень доброй, душевной и много молилась. Очень любила людей, ни на кого не держала зла, и она простила всех своих обидчиков. Прожила до 89 лет в окружении большой, дружной и любящей семьи.
Наш папа Иван Степанович ушёл из жизни 5 августа 2010 года в возрасте 83 лет. Род Акашевых продолжается по его линии.
Нина Степановна ушла из жизни 2 января 2016 года, ей было 92 года. Она перед смертью открыла тайну Натальи Романовны о том, что Галах Андрей Лукич с фронта вернулся живым. Галах Александр Андреевич жив, находится в почтенном возрасте. Проживает в кругу большой и дружной семьи Галах и Акашевых. Ему очень хочется знать, как сложилась судьба у отца, но поиски в Оренбуржье результатов не приносят.
Мы, члены семьи Акашева Стефана Михайловича, настаиваем на том, чтобы о нашей семье публиковали только правду. Стефан Михайлович и Наталья Романовна — это не вымышленные художественные персонажи, а реальные люди, на чью долю выпали тяжелейшие испытания. Ярчайший пример того, какие лишения выпадали на долю священнослужителей, их жён и детей. В многочисленных публикациях опорочено доброе имя Натальи Романовны, и это последствия политического духа того времени. Умышленно порочили образ «служителей культа», и эта тень падала на жён. Люди, пережившие те страшные годы лихолетья, достойны, чтобы о них говорили правду.
По воспоминаниям и семейным архивам автобиографию предоставляет внучка
Акашева Стефана Михайловича.
Казанцева (Акашева) Наталья Ивановна
г. Екатеринбург
Август 2025 г.
В 1944 г. при составлении послужного списка о. Стефан напишет:
«В моё отсутствие жена моя, Наталья Романовна, в мае 1936 года, нарушив закон церковного брака, вступила во второй брак, гражданского состояния. С момента нарушения церковного брака женою, остаюсь чуждым к семейной жизни и в этом усмотрел призвание Божье к достижению пострига в монашество.
Дети: Дочь Нина 1924 года рождения.
Сын Иоанн 1927 года рождения.»
Запись его рукой о детях — немаловажное подтверждение. Некоторые источники утверждают, что у о. Стефана была одна красавица дочь Нина, а Иван — сын председателя.
В послужном списке о. Стефан напишет: «Декабря 30 дня 1943 года, получив справку о моём назначении от 17 декабря 1943 года за № 948, я 23 января 1944 года выехал из Ухты к месту моего служения и только после упорных трудов по сооружению заброшенного храма 7 апреля приступил к совершению церковных служб и исполнению религиозных обрядов.»
И стар, и млад помогали переносить из храма зерно в амбары. Настоятель запряг лошадь и ездил по селу, стучался в каждый дом и просил вернуть в храм иконы. Искренне благодарил сельчан за спасение икон. В храм принесли много икон из окрестных разрушенных церквей. Верующие ликовали, духовная жизнь возрождалась. Приход становится полнолюдным, это не нравилось местным властям. Да и на местах по собственной инициативе власти не желали признавать послабления для церквей и служителей. Акашев о. Стефан был образованным, начитанным, следил за политической обстановкой в стране и отслеживал все изменения в законодательстве, касающиеся Русской православной церкви.
Семья Акашева предоставила нам документ (найден был в иконе). О. Стефан писал жалобу 7 марта 1945 г. Он даже в таком сложном периоде не побоялся отстаивать свою позицию.
«Уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме Союза С. С. Р. по Чкаловской области
Товарищу Тептяреву.
Священник села Верхняя Платовка
Покровского района, Чкаловской области
Акашев Степан
Как вам известно, что церковь в селе Верхняя Платовка является единственной на несколько районов в Чкаловской области, в которой верующий может получить утешение и облегчение души своей от тяжёлых жизненных испытаний и переживаний, выпавших вследствие войны на каждого из нас. Вам хорошо известно, что не всем верующим имеется возможность ехать в вышеупомянутую церковь ввиду различных складывающихся жизненных причин, а потому среди верующих имеется практика приглашать служителей культа в то или иное селение с тем, чтобы совершать требы и религиозные обряды на местах их жительства. Так и поступили жители села Алексеевка Переволоцкого района. Дав им согласие своё, я, 26 февраля сего года, пришёл в вышеназванное село, предъявил свои документы председателю сельского совета и объяснил цель своего прихода по просьбе верующих удовлетворить духовную потребность верующих масс. Председатель сельского совета, не имея указаний в возможности допустить меня к совершению треб, позвонил по телефону в Переволоцкий райсовет и вместо согласия получил распоряжение изъять мои документы и доставить меня в райсовет. Как видно, т. т. Захарин и Маршинский отстали от жизни, не следят за положением существующих положений в отношении церкви и её служителям в советском государстве и не хотят считаться с интересами верующих и их духовными потребностями. Действия вышеуказанных работников совучреждений считаю делом неправильным, а посему считаю необходимым поставить Вас, председателя Совета по церковным делам товарища Карпов и Главу Правительства маршала Сталина в известность о имеющихся безобразных взаимоотношениях со стороны некоторых работников совучреждений в Чкаловской области, ненормальности в отношении взглядов к церкви и к её служителям, устрашение их, тем самым давить возможность умиротворить обездоленные и униженные чувства верующих. Вознося свои недостойные молитвы к престолу Царя Славы, и испрашиваю Вам здравия, долгоденствия и успеха в плодотворной Вашей работе на благо Родины и процветания Церкви Христовой.
С глубоким уважением и с совершенным почтением к Вам
Священник Акашев Степан Михайлович
7 марта 1945 год».
Из Архивной справки от 11.11.1947 г.
1946 — была построена ограда вокруг храма.
1947 г. — построен дом священника.
1947 г. — заменили всю кровлю, покрыли железом и покрасили.
Построена колокольня, застеклили рамы и покрасили, покрасили полы. Устроена главка и алтарь.
Формировалась большая монашеская община. О. Стефан был очень сильный духовник. Следил за политической обстановкой в стране. Каждое утро приходил к репродуктору, слушал новости. Куликова (Федюнина) Лидия Кузьминична поделилась воспоминаниями. Она работала в правлении, а о. Стефан приходил сдавать налог. Оставлял и уходил. Она пересчитывала, а там всегда были лишние деньги. Она сказала о. Стефану, а он сказал, что там всё ровно, он сам считал: «Где излишек, там и недостача!» Она посоветовалась с мамой, как же быть. Клавдия Васильевна сказала: принимай сколько положено, а излишек носи и клади в кружку храма. Так и делала.
Летом 1945 г. состоялась в Верхней Платовке историческая встреча о. Стефана и епископа Мануила. Он приехал до станции Платовка, шёл пешком через Нижнюю Платовку в Верхнюю. Расстояние пути чуть более 7 км. Дорогу устлали травой, через небольшие промежутки стояли группами верующие. Епископ был так вдохновлён встречей, что снял с себя крест с мощами и одел на о. Стефана со словами: «Дарю тебе самое ценное, что имею!» Точная дата принятия монашества неизвестна, но это было при епископе Мануиле, возглавлявшем епархию с 1945 по 1948 г. О. Стефан в тайном постриге Серафим.
Приезжал в гости к о. Стефану протоиерей Феодор, настоятель Керченского храма Иоанна Предтечи. По преданию они познакомились в ссылке. Он попросил о. Стефана взять к себе своего послушника. Протоиерей Феодор, прожив при храме, отошёл ко Господу. Похоронен в ограде нашего храма. Об о. Стефане с нами поделился воспоминаниями Давыдов Владимир Васильевич. О. Стефан был в хороших отношениях с его отцом-фронтовиком, часто бывал у них в бане, вели долгие разговоры о прошедшей войне. В один из таких приходов он застал Владимира Васильевича в критичном состоянии, была сильная скарлатина, а помощи было ждать неоткуда. О. Стефан взялся за врачевание и спас ребёнка.
Жители вспоминают, что о. Стефан с послушниками на празднование Пасхи ходили по домам и поздравляли. У них были большие корзины, в которые складывали преподношения и из этих же корзин раздавали преподношения сами. Власти запретили такие хождения по домам.
Многие подтверждают тот факт, что при о. Стефане в ограде храма, по всему периметру благоухали жёлтые розы!
Примерно в 1955 г. в Верхнюю Платовку приехал послушник протоиерея Феодора Григорий Иванович Петренко.
Петренко Григорий Иванович.
Родился 7 сентября 1930 года в местечке Катерлез, современное село Войково, в 4 км от Керчи.
Мама — Мария, отец — Иван, брат — Павел и сестра — Надежда. Павел впоследствии неоднократно навещал Григория в Верхней Платовке. Отец Григория воевал на фронте в пехоте, а затем военным санитаром. Семья претерпела все лишения военных лет.
Григорий познакомился с протоиереем Феодором, когда тот был настоятелем в Керченском храме Иоанна Предтечи. Стал постоянным прихожанином. Помогал в алтаре и церковной лавке. Распознал в Григории стремление послужить Богу. Он ходатайствовал за него, и так дорога привела его в наш храм!
При Хрущёве гонения на церковь вновь усилились, на священников клеветали, вынуждали отречься публично, принудительно закрывали храмы. К примеру, документальное подтверждение: исполком Новосергиевского района 26.09.1963 г. посылал ходатайство от комсомольской организации колхоза «Восточный», коллектива Платовской 8-летней школы и 13 заявлений граждан В-Платовки с требованием закрытия церкви и её сноса. Всё это сохранилось в архивах. Приход при храме был многолюдным и активным. Властям это не нравилось, придирались по каждой мелочи. А особенно властям не нравился настоятель о. Стефан. В 1964 году Акашева обвинили в даче взятки фининспектору и запретили служение.
В сентябре 1964 года Григорий Иванович Петренко вместе со своим духовным отцом приехали в Оренбургскую епархию к владыке Леонтию с просьбой о рукоположении в священнослужители.
Сначала уполномоченный совет по делам РПЦ в Оренбургской области был против, но потом, посмотрев на «кандидата», разрешил: мол, толку всё равно не будет. Священники тоже высказались против: необустроенный, необразованный, да и простоватый, а времена тяжёлые — вдруг не выдержит?
На все доводы Владыка Леонтий сказал: «Я недоволен вашими ответами, поговорю ещё раз с духовным отцом!»
Владыка вызвал о. Стефана и спросил: «Может ли он стать священником?»
О. Стефан подумал и твёрдо сказал: «МОЖЕТ!»
Владыка сказал Григорию лишь одно слово: «ГОТОВЬСЯ!»
О. Григорий 11.09.1964 г. рукоположен в сан дьякона, 12.09.1964 г. рукоположен в священники.
С 1964 г. по 1970 г. о. Стефан был рядом с ним. Они жили в одной келье в небольшой постройке около храма. В годы своего запрещения о. Стефан пел на клиросе, помогал в алтаре. Очень сильно переживал, до слёз. Протоиерей Стефан был решительным и строгим: они много молились и строго постились. В Верхней Платовке о. Стефан начал отчитывать, делал тайно. Когда его перевели в село Заплавное Куйбышевской епархии, отчитывал в открытую. Отец Григорий часто навещал своего духовного отца в Заплавном, пока тот не отошёл ко Господу 11 апреля 1975 г. В этом году, 2025, — 50 лет памяти.
В этом храме о. Григорий прослужил 46 лет. Большой полнолюдный приход. Добрая слава о храме и священнослужителе облетела всю Россию. В храм не только приезжали, но и приходили пешком в большом количестве странники и странницы. Храм долгие годы оставался единственным на всю округу. Из близлежащих сёл были молельные дороги, по которым годами верующие ходили пешком. Одна такая тропинка шла через поле, но трактористы, доезжая до неё, всегда поднимали плуг. Тропу через поле не перепахивали. По большим праздникам прихожане не вмещались в храме, стояли в ограде и за оградой. Люди были готовы неделями ждать приёма к прозорливому старцу. Исцелял, сбылись и сбываются многочисленные пророчества. Конечно, приезжали и такие, кто пытался требовать, был настойчив: «Батюшка, ну скажите, ну ответьте. Мы же задали вопрос!» Отец Григорий был рад всем. Одно из пророчеств касается села Верхняя Платовка. Отец Григорий пророчил: «Село будет вновь полнолюдным, людей будет словно кур в курятнике, места хватать не будет. Жить будут на чердаках.» Награждения: митры, набедренник, крест с каменьями, благословение служить с открытыми вратами. На исповедь всегда была большая очередь, перед о. Григорием все опускались на колени и ловили каждое слово, что он говорил. Это было бесценно. Бывший насельник обители при о. Григории поделился воспоминаниями, которым он был свидетелем. И этот духовный дар он несёт по своей жизни. Георгий Аникеев поведал, что приехал к о. Григорию молодой парень. Он приехал за советом к прозорливому старцу, как строить свою жизнь. Он был начинающим художником и в 18 лет стоял на перепутье. Он в порядке очерёдности подошёл на исповедь, опустился на колени и поведал цель своего приезда. О. Григорий его выслушал, задал несколько вопросов. А полный ответ как духовный дар подарил всем находящимся в храме.
«Посмотрите на плуг, которым пашут землю. Им, когда пашут, он беленький, гладенький. На него приятно смотреть, его хочется поцеловать. Он людей кормит. А когда плугом не пашут, он стоит ржавый и имеет неприглядный вид!»
Чтобы поведать о служении о. Григория, о всех насельниках обители и чудесах, которым они были свидетелями, необходим цикл книг. При о. Григории по старым традициям на Крещение Господне рубили Иордан, на Рождество толпы христославцев ночь напролёт ходили по домам. В церкви всегда происходила заготовка льда для хранения просфор. В сильную метель звонили в колокола, при больших пожарах так же звонили в колокола и выносили из церкви иконы и с ними ходили вокруг горящего здания. Был поздний зимний вечер. Горело помещение бывшей колхозной конторы. Здание было большое, деревянное, огонь сильно бушевал. Звонил колокол, сбежались все сельчане. Из горевшего здания пытались спасти инвентарь медпункта. Суета, крики. И вдруг послышалось пение, и все увидели насельниц обители. Они пели молитву и несли иконы. Чтобы обогнуть пожар по кругу, нужно было большой полукруг обогнуть по глубокому снегу. Женщины, не мешкая ни секунды, запели молитву ещё громче, прижали иконы к груди и в длинных юбках стали пробираться по глубокому снегу. Таких кругов они сделали не менее четырёх. От пожара никто не пострадал.
При о. Григории было большое хозяйство. На хоздворе были коровы, быки, имели лошадь и повозку. Содержали огороды. Жизнь в обители кипела. В преклонном возрасте о. Григорий страдал диабетом. У него был собственный повар Фатиния, готовила необходимую при таком заболевании пищу. И сейчас трапезная поддерживает монастырские уставы, не подаётся мясо. На данный момент многое что функционирует так, как благословил о. Григорий. Все посты строго соблюдаются. У о. Григория был и свой келейник, который, если требовалось, оказывал и медицинскую помощь. О. Григорий всегда говорил: «Молитесь, повернувшись на восток. На востоке престол, на востоке все святые!»
В последние годы пребывания о. Григория в храме с ним служил дьякон иерей Сергий Григорьев. При нём деревянное облачение храма покрыли сайдингом. В главке произвели ремонт, старинную роспись закрыли листами и нанесли новую роспись. Были заменены колокола, построена новая просфорня. Была разобрана слесарная мастерская, в которой ещё трудился брат о. Стефана Акашева, Дмитрий. Слесарня обслуживала потребности храма, и там так же изготавливали гробы и кресты, которые хранили в подвале под храмом. Нуждающаяся семья могла обратиться, и храм выдавал. Ограду храма обнесли забором из сетки, иерей радел за липовую аллею. На пустующей земле Владимир Дедловский посадил ели.
Было большой утратой, когда о. Григорий покидал обитель.
Указом митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина от 16.05.2006 года был освобождён от должности настоятеля храма и назначен исполнять пасторские обязанности в Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия п. Саракташ. Ушёл из жизни 26 сентября 2021 г. В священном сане прослужил 57 лет.
Чудотворные иконы храма.
Сегодня в храме находится несколько икон, имеющих славу чудодейственных. В том числе список с иконы Божией Матери «Достойно есть», написанная на Афоне и особенно почитаемая в Оренбуржье. Её сила впервые явилась, когда её пытались перевезти в собор областного центра. Епископ Мануил (Лемешевский), увидев эту икону, сказал, что ей место в Кафедральном Никольском соборе г. Оренбурга, на то время единственном в Оренбуржье.
Ни повозка, ни машина не смогли выехать за пределы села. Владыка был духовным человеком, узнав об этом, сказал: «Пусть икона будет там, где Божья Матерь ей определила место». Было принято решение икону более не беспокоить. Икона ни разу не реставрировалась, не была под стеклом. Состояние словно она написана несколько месяцев назад. Есть предание о том, что из села Кулагино на Афон ушёл пешком парень, принял монашество. В утешение родителям прислал эту икону.
Есть предание о том, что в годы гонений этой иконой накрывали ларь с зерном, таким образом её спасли. Точной даты нет, когда икона попала в наш храм. По одним источникам её привезли с Афона в 1887, по другим — в 1901 г.
Ко встрече с иконой паломникам рекомендуется читать утреннее правило, а следом – Богородичное. Считается, что его исполнение важнее акафистов. Паломники рассказывают, что кому-то она помогла выйти замуж, кому-то вопреки врачебным показаниям позволила родить здорового ребёнка, кому-то помогла выбраться из сложной жизненной ситуации.
Ещё одна чудотворница – Табынская икона. Это копия со знаменитой уральской святыни. В период гонений на церковь её укрывала у себя одна семья. Люди были воцерковлённые, бережно хранили, молились на неё. И всё же в новом поколении появился в семье активист-иконоборец. В яростном порыве попытался он прибить икону на собственные ворота. Но не довёл задуманного до конца, упал замертво. Родственники передали икону в Храм.
В Храме постепенно оказалось немало святынь из местных разорённых храмов. Например, знаменитая икона святителя Николая Чудотворца. Как известно, детям он особенно покровительствует. Есть история, что трое местных ребятишек увидели на Николу-Зимнего, как у святого текут слёзы. Только не сверху вниз, а наоборот. Взрослые чуда не видели, но любой ребёнок до 7 лет может его лицезреть. Когда-то эта икона при свидетелях исцелила женщину, страдающую постоянными обмороками. Её привезли в Храм на праздник Святого Пророка. Она приложилась к иконе, исповедалась, причастилась. Её помазали маслом из лампады, и она буквально за секунды исцелилась.
Духовные чада о. Григория часто вспоминают. Когда просили благословение ехать молиться по святым местам, он говорил:
«Молитесь дома. Здесь вам и Иерусалим, здесь вам и Дивеево!»
Светлана Куда
26.01.2026 22:17
Сказ бабушки Аксиньи.
Садись ближе к печи, милок, ноги в тепле держи. Помню я Ульяну... Красивая была, супостатка, да красота та змеиная. В станице её за версту обходили. На Крещение-то, когда лёд на Яике-батюшке от стужи стонет, она к реке бегала. Не крестилась, нет. Ножом костяным круг чертила, да не простой, а против солнца.
«Вода-матушка, не божья ты ныне, а моя!» — кричала. А вода из-подо льда чёрная лезла, густая, как кровь запекшаяся. Степан, парень был справный, за ней увязался, дурень. Увидел, как она в ковш серебряный тьму черпает. А она обернулась: «Что, Стёпушка, засмотрелся? На, испей за помин души своей!». И плеснула. У него на лбу пятно вмиг выскочило, ровно клеймо дьявольское. Пришёл домой — ни слова сказать не может, только свистит, как ветер в пустой трубе. Мать его за икону схватилась, а икона в руках в уголь рассыпалась. Утром на реке — страх господень. Поп крест в воду, а вода гнилью несёт. Ульяна в алом платке хохочет: «Пейте, православные, моё угощение!». И кувшин свой в прорубь — бултых! Глядь люди — а в вёдрах змеи чёрные кишат вместо водицы. Сожгли её жилище в тот же вечер, да только Ульяны там не было. Видели, как она по льду шла, и Стёпка-тень за ней следом, ровно привязанный. Шагнули в черноту — и поминай как звали.
Думали казаки — сгорела нечисть, и дым её по ветру развеяло. Да только на утро в станице ни один петух не пропел. Тишина такая, ровно в гробу. Пошли бабы к колодцам, черпнули воды — а она чёрная, как дёготь, и воняет палью. «Глядите! — закричала Дарья-соседка. — В ведре-то не отражение моё, а рожа Ульянина скалится!». И правда, милок, вода в колодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пьёшь её, а она нутро жжёт, и в голове голоса чужие шепчут. Скотина первая чуять стала: коровы ревели, ровно их режут, а кони в конюшнях копытами стены расшибали, лишь бы на волю, в степь уйти от этой воды.
Пелагея, мать Стёпкина, три дня у пепелища сидела, золу руками рыла. «Сыночек, — воет, — отзовись! Хоть косточку твою найду!». А на четвёртую ночь приснился ей Стёпка. Стоит весь в инее, изо рта пар не идёт, а вместо глаз — дыры тёмные. «Матушка, — шепчет, а голос ровно камыш сухой шуршит, — холодно мне на дне Яика, Ульяна меня за руку держит, отпускать не велит. Приди к проруби, принеси мне рубаху крестильную, может, согреюсь». Вскочила Пелагея, схватила рубаху и босая, в чём была, к реке кинулась. А мороз такой, что деревья в лесу лопались с треском, ровно из пушек палили.
Прибежала она к проруби, где Ульяна сгинула. Глядит — а лёд там не замерзает, крутит вода чёрную воронку. И выходит из воды Ульяна, молодая, краше прежнего, а за ней Стёпка бредёт, ровно телёнок на привязи. «Отдай сына, супостатка! — кричит Пелагея, рубаху крестильную вперёд тянет. — На нём крест был!». А Ульяна смеётся, и зубы у неё острые, как у щуки: «Нету здесь больше твоего сына, старая. Это теперь мой раб, мой голос, моё дыхание. А рубаху твою я в тину спрячу, пусть раки её грызут». Плеснула она водой на рубаху — и белое полотно вмиг истлело, прахом по ветру пошло. Пелагея так и осела на лёд, а Ульяна ей в ухо шепчет: «Скоро вся станица ко мне придёт, по одному соберёмся».
Атаман наш, Савельич, мужик был крепкий, в Бога верил, да только жадность его сгубила. Нашёл он на пепелище тот самый кусок чёрного стекла, что от зеркала остался. Поднял, в карман сунул — думал, серебро там или камень дорогой. И с того дня стал Савельич сам не свой. Запрётся в избе, в осколок этот смотрит и сам с собой разговаривает. «Вижу, — говорит, — золото на дне речном, вижу царство великое». А сам сохнет, кожа да кости остались. Стал он по ночам из избы выходить к реке. Придёт, осколок к воде приложит и слушает. А из воды ему шёпот: «Приведи людей, Савельич, напои их водицей моей, и будешь над всеми хозяином».
Кончилось всё страшно, милок. В одну ночь Савельич кликнул народ, мол, чудо на реке, святой лик проступил. Пошли люди, дураки, за ним. А он их к самой полынье вывел. «Глядите, — кричит, — там рай земной!». И первым в воду прыгнул. А за ним и другие потянулись, ровно овцы за вожаком. Только те, кто дома остался да двери на засовы запер, и выжили. С тех пор станица та и опустела. Дома сгнили, сады бурьяном заросли. А река... река всё та же. Иной раз рыбак закинет невод, а вытащит не рыбу, а прядь волос чёрных или ковш серебряный. И если услышишь в камышах свист холодный — беги, внучок, не оглядывайся. Это тень Стёпки тебя кличет, а Ульяна за ним в зеркало своё смотрит, новую душу ждёт.
«Вода-матушка, не божья ты ныне, а моя!» — кричала. А вода из-подо льда чёрная лезла, густая, как кровь запекшаяся. Степан, парень был справный, за ней увязался, дурень. Увидел, как она в ковш серебряный тьму черпает. А она обернулась: «Что, Стёпушка, засмотрелся? На, испей за помин души своей!». И плеснула. У него на лбу пятно вмиг выскочило, ровно клеймо дьявольское. Пришёл домой — ни слова сказать не может, только свистит, как ветер в пустой трубе. Мать его за икону схватилась, а икона в руках в уголь рассыпалась. Утром на реке — страх господень. Поп крест в воду, а вода гнилью несёт. Ульяна в алом платке хохочет: «Пейте, православные, моё угощение!». И кувшин свой в прорубь — бултых! Глядь люди — а в вёдрах змеи чёрные кишат вместо водицы. Сожгли её жилище в тот же вечер, да только Ульяны там не было. Видели, как она по льду шла, и Стёпка-тень за ней следом, ровно привязанный. Шагнули в черноту — и поминай как звали.
Думали казаки — сгорела нечисть, и дым её по ветру развеяло. Да только на утро в станице ни один петух не пропел. Тишина такая, ровно в гробу. Пошли бабы к колодцам, черпнули воды — а она чёрная, как дёготь, и воняет палью. «Глядите! — закричала Дарья-соседка. — В ведре-то не отражение моё, а рожа Ульянина скалится!». И правда, милок, вода в колодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пьёшь её, а она нутро жжёт, и в голове голоса чужие шепчут. Скотина первая чуять стала: коровы ревели, ровно их режут, а кони в конюшнях копытами стены расшибали, лишь бы на волю, в степь уйти от этой воды.
Пелагея, мать Стёпкина, три дня у пепелища сидела, золу руками рыла. «Сыночек, — воет, — отзовись! Хоть косточку твою найду!». А на четвёртую ночь приснился ей Стёпка. Стоит весь в инее, изо рта пар не идёт, а вместо глаз — дыры тёмные. «Матушка, — шепчет, а голос ровно камыш сухой шуршит, — холодно мне на дне Яика, Ульяна меня за руку держит, отпускать не велит. Приди к проруби, принеси мне рубаху крестильную, может, согреюсь». Вскочила Пелагея, схватила рубаху и босая, в чём была, к реке кинулась. А мороз такой, что деревья в лесу лопались с треском, ровно из пушек палили.
Прибежала она к проруби, где Ульяна сгинула. Глядит — а лёд там не замерзает, крутит вода чёрную воронку. И выходит из воды Ульяна, молодая, краше прежнего, а за ней Стёпка бредёт, ровно телёнок на привязи. «Отдай сына, супостатка! — кричит Пелагея, рубаху крестильную вперёд тянет. — На нём крест был!». А Ульяна смеётся, и зубы у неё острые, как у щуки: «Нету здесь больше твоего сына, старая. Это теперь мой раб, мой голос, моё дыхание. А рубаху твою я в тину спрячу, пусть раки её грызут». Плеснула она водой на рубаху — и белое полотно вмиг истлело, прахом по ветру пошло. Пелагея так и осела на лёд, а Ульяна ей в ухо шепчет: «Скоро вся станица ко мне придёт, по одному соберёмся».
Атаман наш, Савельич, мужик был крепкий, в Бога верил, да только жадность его сгубила. Нашёл он на пепелище тот самый кусок чёрного стекла, что от зеркала остался. Поднял, в карман сунул — думал, серебро там или камень дорогой. И с того дня стал Савельич сам не свой. Запрётся в избе, в осколок этот смотрит и сам с собой разговаривает. «Вижу, — говорит, — золото на дне речном, вижу царство великое». А сам сохнет, кожа да кости остались. Стал он по ночам из избы выходить к реке. Придёт, осколок к воде приложит и слушает. А из воды ему шёпот: «Приведи людей, Савельич, напои их водицей моей, и будешь над всеми хозяином».
Кончилось всё страшно, милок. В одну ночь Савельич кликнул народ, мол, чудо на реке, святой лик проступил. Пошли люди, дураки, за ним. А он их к самой полынье вывел. «Глядите, — кричит, — там рай земной!». И первым в воду прыгнул. А за ним и другие потянулись, ровно овцы за вожаком. Только те, кто дома остался да двери на засовы запер, и выжили. С тех пор станица та и опустела. Дома сгнили, сады бурьяном заросли. А река... река всё та же. Иной раз рыбак закинет невод, а вытащит не рыбу, а прядь волос чёрных или ковш серебряный. И если услышишь в камышах свист холодный — беги, внучок, не оглядывайся. Это тень Стёпки тебя кличет, а Ульяна за ним в зеркало своё смотрит, новую душу ждёт.
17.01.2026 21:52
Спасение станицы Мамалаевской ценой жизни.
Январь 1918 года выдался лютым. Оренбургская степь, обычно величавая в своём белоснежном покое, превратилась в ледяной ад. Ветер выл, словно стая голодных волков, заметая следы былой жизни. Но страшнее метели был гул, шедший по стальным жилам земли. К Оренбургу мчался бронепоезд — "Северный летучий отряд моряков" под предводительством мичмана Сергея Дмитриевича Павлова. Он вез не мир на оренбургскую землю, а ненависть, злобу, расправу и кровопролитие.
В железном чреве сидели матросы с линейных кораблей «Гангут», «Петропавловск», «Андрей Первозванный». Отряд имел в своем арсенале пушки корабельной артиллерии, более сотни пулеметов, гранаты, винтовки и патроны.
Ослеплённые лозунгами о новом мире, где «кто был никем, тот станет всем», они мчались на всех дымящих копотью и сажей парусах по степным просторам, чтобы построить новый мир. Но прежде, чем его построить, они решили сперва утопить в крови и разрушить мир старый.
Не обошла стороной эта беда и нашу станицу Мамалаевскую Оренбургской губернии. Оренбургский край — край казачий. По прямому указу Ленина, дабы искоренить казачью вольницу и утвердить власть пролетариата, бронепоезд с транспарантами и лозунгами, с портретами вождя прибыл на оренбургскую землю. Они, по их мнению, принесли свет и новую жизнь «угнетённым рабам» старого режима.
Эта история, произошедшая в то кровавое время, передаётся из поколения в поколение и подтверждена фактами, найденными в архивных документах.
Казаки станицы Мамалаевской и Капитоновки приняли решение о сохранении нейтралитета. Изнурительная Первая Мировая война сыграла в этом решающую роль. Одно дело воевать с врагом внешним и защищать свои границы, а другое — со своим же народом. Они хотели решить всё мирно.
И вот в январе 1918 года бронепоезд стоял у села Бурдыгино Бузулукского уезда, ныне Сорочинский район Оренбургской области, что находится в 73-х километрах от села Мамалаевка. По пути следования бронепоезд обстреливал казачьи станицы и нёс не мир в дома людей, а горе, разруху, зверство жаждущих крови, словно вырвавшихся на волю изголодавшихся хищников.
14–15 января 1918 года нашего прадеда Широкова Ефима Яковлевича, которому было тогда 40 лет — возраст зрелости и силы, — со своим сослуживцем из села Капитоновка отправили по приказу атамана Акашева, (впоследствии ставшим председателем в Мамалаевке), в село Бурдыгино, как парламентёров, с просьбой решить мирно всё и чтобы не обстреливали Мамалаевку и Капитоновку. После отправки деда в Бурдыгино другие казаки долго вспоминали и говорили, что сказал вслед Ефиму Акашев, а сказал он с усмешкой: «Пусть помнут старые кости Ефиму» — он знал, что на смерть отправляет казаков.
Как рассказывала жена Ефима всю историю детям, а дети своим детям, о том, как на поминках Ефима произошёл конфликт с дракой. Казаки на тот момент видели и знали больше нас и были свидетелями происходящего. Один казак (имя его до наших дней не дошло) поругался с Акашевым, обвинил его в гибели Ефима. Когда сообщили, что Ефим попал в плен, то вместо того, чтобы отправить казаков на выручку, тот лишь сказал, что пусть, мол, помнут старые кости Ефиму. Мы знаем, что казак — друг и родственник нашему деду - Каргалов Иван Семёнович — помчался один к нему на выручку, но по дороге был застрелен с бронепоезда. Он, раненый, полз до станицы долгое время, но всё же от ран скончался и был похоронен на мамалаевском кладбище.
И этот Акашев, многих сгубил, когда начались репрессии, выискивание врагов народа по его указке неугодных ему людей. Это всё много лет передавалось из уст в уста, как люди меняли имена, отчества, фамилии, скрывали происхождение и все, что связывало с казачеством под страхом смерти. Не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков. Про подвиги Акашева есть отдельная история, рассказанная его потомком, но там он по понятным причинам показан с хорошей стороны, как весело катался на бронепоезде и, играючи с кумом из Капитоновки, сбили крест на куполе храма в станице Донецкой прямо из бронепоезда. Акашев был наводчиком, а кум из Капитоновки стрелял по храму. И они радовались, что попали с первого раза. И как назвать того человека, который рушил всё на своей родной земле, проливал кровь своих же земляков?
Итак, наш дед Ефим со своим сослуживцем из Капитоновки Карагодиным отправились в Бурдыгино. Прибыв на место назначения в село Бурдыгино (второе название Длинная Деревня), что там произошло — доподлинно неизвестно, но дед наш был взят в плен, а Карагодин сумел вырваться, при этом отсечь шашкой руку одному из матросов. Вернувшись в Мамалаевку, он рассказал о том, что деда захватили в плен. И, конечно же, рассказал всё, что там произошло. Эту историю мы собирали по крупицам. Рассказывали её старенькие дети и внуки Ефима, которые в силу возраста многое позабыли и сами были совсем маленькими и узнавали от своих родственников, которые помнили то время.
Когда Ефима захватили в плен и об этом узнала бабушка Анастасия Григорьевна, то она, собрав всё, что было дома ценного, вместе с двумя родственницами повезла в Бурдыгино, чтобы вызволить мужа из плена. Она ехала с надеждой увидеть его живого. Только не знала... что мужа уже нет в живых.
Ефима палачи из бронепоезда убили за то, что он был казаком. В казни принимал участие Фёдор Ильич Подзоров по прозвищу «Ангел мой». На тот момент он ещё не был командиром, но все наши старики, как один говорили, что это был и принимал участие в издевательствах именно Подзоров. Назвали его так, потому что перед тем, как казнить человека, он складывал руки у себя на груди крестом и с иронией говорил: «Ну, что, Ангел мой? Прощайся с жизнью», мол, полетишь сейчас к ангелам. После этой фразы человек подвергался пыткам, затем его убивали.
Ефима перед тем, как казнить, зверски истязали. Привязанному к дереву, на живом теле вырезали лампасы, в плечи забивали гвозди — так поступали со всеми офицерами, кто имел звания. Сорвали нательный крест и на груди вырезали звезду, потом четвертовали, тоже всячески изощряясь над ещё живым казаком.
Приехав на место стоянки бронепоезда, женщины увидели такую картину: происходила пьяная гулянка. Окаянные матросы, пребывая в пьяном угаре, отобрали все деньги и ценности до единой копейки, не оставив женщинам ничего, кроме горя. Что там произошло дальше — мы не знаем, только домой Анастасия привезла лишь изрубленное на куски (четвертованное) тело Ефима. Он был весь исколот штыками, глаза были залиты кровью. Страшно представить, какие муки перенёс наш дед, который поехал не воевать, а просить за станицу, сообщить, что они не хотят кровопролития.
Можно ли назвать тех, кто издевался так над нашим дедом, людьми? Они приехали в Оренбуржье убивать казаков по приказу из центра, и деды говорят, что командир бронепоезда — мичман Павлов — говорил: «Первому казаку, которого встречу, пущу пулю в лоб».
Эта страшная гибель деда произошла за несколько дней до боёв под Оренбургом. Ефим принял мученическую смерть 16 января 1918 года, а осада Оренбурга матросами бронепоезда началась 18 января 1918 года.
Ефим принял мученическую смерть за родную станицу, но миссию он свою выполнил — село живёт. Здесь шли ожесточённые бои, и по рассказам одной очевидицы тех лет, чье повествование передавалось из уст в уста и дошло до наших дней: отважный казак держал оборону станицы один и лупил нещадно из пулемёта "Максим" по врагам с крыши бани. Был он совсем юным, жаль, имени бабушка не запомнила, но с таким задором рассказывала про того молоденького казака, что живо можно представить, как это было.
После трагических событий, связанных с нашим дедом и другими казаками, которые хотели все решить без кровопролития, станичники поняли, что с такими договориться не получится и остается один выход, защищать свой дом от нашествия палачей. Благодаря молодому казаку, многие жители смогли спрятаться и спасти детей. Через много лет после тех событий люди находили патроны, оружие тех лет. Казаки не нападали, они защищали свои станицы, своих родных, свою веру.
В железном чреве сидели матросы с линейных кораблей «Гангут», «Петропавловск», «Андрей Первозванный». Отряд имел в своем арсенале пушки корабельной артиллерии, более сотни пулеметов, гранаты, винтовки и патроны.
Ослеплённые лозунгами о новом мире, где «кто был никем, тот станет всем», они мчались на всех дымящих копотью и сажей парусах по степным просторам, чтобы построить новый мир. Но прежде, чем его построить, они решили сперва утопить в крови и разрушить мир старый.
Не обошла стороной эта беда и нашу станицу Мамалаевскую Оренбургской губернии. Оренбургский край — край казачий. По прямому указу Ленина, дабы искоренить казачью вольницу и утвердить власть пролетариата, бронепоезд с транспарантами и лозунгами, с портретами вождя прибыл на оренбургскую землю. Они, по их мнению, принесли свет и новую жизнь «угнетённым рабам» старого режима.
Эта история, произошедшая в то кровавое время, передаётся из поколения в поколение и подтверждена фактами, найденными в архивных документах.
Казаки станицы Мамалаевской и Капитоновки приняли решение о сохранении нейтралитета. Изнурительная Первая Мировая война сыграла в этом решающую роль. Одно дело воевать с врагом внешним и защищать свои границы, а другое — со своим же народом. Они хотели решить всё мирно.
И вот в январе 1918 года бронепоезд стоял у села Бурдыгино Бузулукского уезда, ныне Сорочинский район Оренбургской области, что находится в 73-х километрах от села Мамалаевка. По пути следования бронепоезд обстреливал казачьи станицы и нёс не мир в дома людей, а горе, разруху, зверство жаждущих крови, словно вырвавшихся на волю изголодавшихся хищников.
14–15 января 1918 года нашего прадеда Широкова Ефима Яковлевича, которому было тогда 40 лет — возраст зрелости и силы, — со своим сослуживцем из села Капитоновка отправили по приказу атамана Акашева, (впоследствии ставшим председателем в Мамалаевке), в село Бурдыгино, как парламентёров, с просьбой решить мирно всё и чтобы не обстреливали Мамалаевку и Капитоновку. После отправки деда в Бурдыгино другие казаки долго вспоминали и говорили, что сказал вслед Ефиму Акашев, а сказал он с усмешкой: «Пусть помнут старые кости Ефиму» — он знал, что на смерть отправляет казаков.
Как рассказывала жена Ефима всю историю детям, а дети своим детям, о том, как на поминках Ефима произошёл конфликт с дракой. Казаки на тот момент видели и знали больше нас и были свидетелями происходящего. Один казак (имя его до наших дней не дошло) поругался с Акашевым, обвинил его в гибели Ефима. Когда сообщили, что Ефим попал в плен, то вместо того, чтобы отправить казаков на выручку, тот лишь сказал, что пусть, мол, помнут старые кости Ефиму. Мы знаем, что казак — друг и родственник нашему деду - Каргалов Иван Семёнович — помчался один к нему на выручку, но по дороге был застрелен с бронепоезда. Он, раненый, полз до станицы долгое время, но всё же от ран скончался и был похоронен на мамалаевском кладбище.
И этот Акашев, многих сгубил, когда начались репрессии, выискивание врагов народа по его указке неугодных ему людей. Это всё много лет передавалось из уст в уста, как люди меняли имена, отчества, фамилии, скрывали происхождение и все, что связывало с казачеством под страхом смерти. Не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков. Про подвиги Акашева есть отдельная история, рассказанная его потомком, но там он по понятным причинам показан с хорошей стороны, как весело катался на бронепоезде и, играючи с кумом из Капитоновки, сбили крест на куполе храма в станице Донецкой прямо из бронепоезда. Акашев был наводчиком, а кум из Капитоновки стрелял по храму. И они радовались, что попали с первого раза. И как назвать того человека, который рушил всё на своей родной земле, проливал кровь своих же земляков?
Итак, наш дед Ефим со своим сослуживцем из Капитоновки Карагодиным отправились в Бурдыгино. Прибыв на место назначения в село Бурдыгино (второе название Длинная Деревня), что там произошло — доподлинно неизвестно, но дед наш был взят в плен, а Карагодин сумел вырваться, при этом отсечь шашкой руку одному из матросов. Вернувшись в Мамалаевку, он рассказал о том, что деда захватили в плен. И, конечно же, рассказал всё, что там произошло. Эту историю мы собирали по крупицам. Рассказывали её старенькие дети и внуки Ефима, которые в силу возраста многое позабыли и сами были совсем маленькими и узнавали от своих родственников, которые помнили то время.
Когда Ефима захватили в плен и об этом узнала бабушка Анастасия Григорьевна, то она, собрав всё, что было дома ценного, вместе с двумя родственницами повезла в Бурдыгино, чтобы вызволить мужа из плена. Она ехала с надеждой увидеть его живого. Только не знала... что мужа уже нет в живых.
Ефима палачи из бронепоезда убили за то, что он был казаком. В казни принимал участие Фёдор Ильич Подзоров по прозвищу «Ангел мой». На тот момент он ещё не был командиром, но все наши старики, как один говорили, что это был и принимал участие в издевательствах именно Подзоров. Назвали его так, потому что перед тем, как казнить человека, он складывал руки у себя на груди крестом и с иронией говорил: «Ну, что, Ангел мой? Прощайся с жизнью», мол, полетишь сейчас к ангелам. После этой фразы человек подвергался пыткам, затем его убивали.
Ефима перед тем, как казнить, зверски истязали. Привязанному к дереву, на живом теле вырезали лампасы, в плечи забивали гвозди — так поступали со всеми офицерами, кто имел звания. Сорвали нательный крест и на груди вырезали звезду, потом четвертовали, тоже всячески изощряясь над ещё живым казаком.
Приехав на место стоянки бронепоезда, женщины увидели такую картину: происходила пьяная гулянка. Окаянные матросы, пребывая в пьяном угаре, отобрали все деньги и ценности до единой копейки, не оставив женщинам ничего, кроме горя. Что там произошло дальше — мы не знаем, только домой Анастасия привезла лишь изрубленное на куски (четвертованное) тело Ефима. Он был весь исколот штыками, глаза были залиты кровью. Страшно представить, какие муки перенёс наш дед, который поехал не воевать, а просить за станицу, сообщить, что они не хотят кровопролития.
Можно ли назвать тех, кто издевался так над нашим дедом, людьми? Они приехали в Оренбуржье убивать казаков по приказу из центра, и деды говорят, что командир бронепоезда — мичман Павлов — говорил: «Первому казаку, которого встречу, пущу пулю в лоб».
Эта страшная гибель деда произошла за несколько дней до боёв под Оренбургом. Ефим принял мученическую смерть 16 января 1918 года, а осада Оренбурга матросами бронепоезда началась 18 января 1918 года.
Ефим принял мученическую смерть за родную станицу, но миссию он свою выполнил — село живёт. Здесь шли ожесточённые бои, и по рассказам одной очевидицы тех лет, чье повествование передавалось из уст в уста и дошло до наших дней: отважный казак держал оборону станицы один и лупил нещадно из пулемёта "Максим" по врагам с крыши бани. Был он совсем юным, жаль, имени бабушка не запомнила, но с таким задором рассказывала про того молоденького казака, что живо можно представить, как это было.
После трагических событий, связанных с нашим дедом и другими казаками, которые хотели все решить без кровопролития, станичники поняли, что с такими договориться не получится и остается один выход, защищать свой дом от нашествия палачей. Благодаря молодому казаку, многие жители смогли спрятаться и спасти детей. Через много лет после тех событий люди находили патроны, оружие тех лет. Казаки не нападали, они защищали свои станицы, своих родных, свою веру.
13.01.2026 20:38
Как подружки на Рождество гадали.
В Рождественскую ночь, когда снежок так хрустел под ногами, а мороз щипал щёчки, три подружки — Дуняша, Анютка и Груша — решили свою судьбу узнать.
— Ой, девчата, мне так страшно! — прошептала Анютка, кутаясь в свою тёплую шаль. — Говорят, сам Банник в бане сейчас гуляет и невесту себе выбирает!
— Ну что ты, Анютка, — махнула рукой Дуняша, поправляя свой яркий сарафан. — Какой там Банник! Нам бы женихов хороших, а не дедушку с веником!
Первым делом они вышли во двор, чтобы валенки метать. Дуняша размахнулась — и как кинет! Прямо за забор! А там — тишина.
— Ну что, Дуняша, куда твой валенок смотрит? — спросила Груша.
— Ой, да прямо на кабак! — ахнула Дуняша. — Неужто мой суженый будет там горькую пить?
— Или, может, он хозяином там станет? — улыбнулась Груша. — Ты посмотри шире, подружка!
Тут Анютка свой валенок кинула. Бах! И слышат они — кто-то кричит и ругается! Выглянули, а валенок-то угодил прямо в сонного соседа, дядю Пахома! Он спросонья решил, что на него лесные разбойники напали, и давай лопатой махать! Девчата еле ноги унесли!
— Ладно, — задыхаясь от смеха, прошептала Дуняша. — Теперь самое верное дело. Пойдём в баню, в зеркала глядеться!
В бане пахло душистым укропом и какой-то тайной. Они поставили два зеркала друг напротив друга, зажгли свечу. И в зеркалах появился длинный-длинный коридор — тёмный и бесконечный.
— Суженый-ряженый, приди ко мне поужинать! — запела Дуняша, вглядываясь в огонёк свечи.
Вдруг свеча дрогнула. И в глубине зеркального коридора показалась тень! Мохнатая, огромная! Анютка сразу зажмурилась, а Груша схватилась за икону. Тень всё ближе, ближе... И вдруг — «Ме-е-е!»
Девчата как закричат! Зеркало повалили, из бани пулей вылетели! А следом за ними — козёл Васька, который просто залез в предбанник погреться.
— Вот тебе и жених, Дуняша! — хохотала Груша, вытирая слёзы. — Бородатый, рогатый, зато в шубе!
— Смейся-смейся, — фыркнула Дуняша, отряхивая снег. — Зато теперь я точно знаю: муж у меня будет упрямый, но при деньгах! Козёл-то наш, говорят, клад в огороде нашёл!
Так и гадали они до первых петухов. И хоть суженых в ту ночь не встретили, зато страху натерпелись и насмеялись на целый год вперёд! Ведь на святки главное — не кого увидишь, а как весело об этом потом в деревне рассказывать будешь! Вот такая весёлая история!
— Ой, девчата, мне так страшно! — прошептала Анютка, кутаясь в свою тёплую шаль. — Говорят, сам Банник в бане сейчас гуляет и невесту себе выбирает!
— Ну что ты, Анютка, — махнула рукой Дуняша, поправляя свой яркий сарафан. — Какой там Банник! Нам бы женихов хороших, а не дедушку с веником!
Первым делом они вышли во двор, чтобы валенки метать. Дуняша размахнулась — и как кинет! Прямо за забор! А там — тишина.
— Ну что, Дуняша, куда твой валенок смотрит? — спросила Груша.
— Ой, да прямо на кабак! — ахнула Дуняша. — Неужто мой суженый будет там горькую пить?
— Или, может, он хозяином там станет? — улыбнулась Груша. — Ты посмотри шире, подружка!
Тут Анютка свой валенок кинула. Бах! И слышат они — кто-то кричит и ругается! Выглянули, а валенок-то угодил прямо в сонного соседа, дядю Пахома! Он спросонья решил, что на него лесные разбойники напали, и давай лопатой махать! Девчата еле ноги унесли!
— Ладно, — задыхаясь от смеха, прошептала Дуняша. — Теперь самое верное дело. Пойдём в баню, в зеркала глядеться!
В бане пахло душистым укропом и какой-то тайной. Они поставили два зеркала друг напротив друга, зажгли свечу. И в зеркалах появился длинный-длинный коридор — тёмный и бесконечный.
— Суженый-ряженый, приди ко мне поужинать! — запела Дуняша, вглядываясь в огонёк свечи.
Вдруг свеча дрогнула. И в глубине зеркального коридора показалась тень! Мохнатая, огромная! Анютка сразу зажмурилась, а Груша схватилась за икону. Тень всё ближе, ближе... И вдруг — «Ме-е-е!»
Девчата как закричат! Зеркало повалили, из бани пулей вылетели! А следом за ними — козёл Васька, который просто залез в предбанник погреться.
— Вот тебе и жених, Дуняша! — хохотала Груша, вытирая слёзы. — Бородатый, рогатый, зато в шубе!
— Смейся-смейся, — фыркнула Дуняша, отряхивая снег. — Зато теперь я точно знаю: муж у меня будет упрямый, но при деньгах! Козёл-то наш, говорят, клад в огороде нашёл!
Так и гадали они до первых петухов. И хоть суженых в ту ночь не встретили, зато страху натерпелись и насмеялись на целый год вперёд! Ведь на святки главное — не кого увидишь, а как весело об этом потом в деревне рассказывать будешь! Вот такая весёлая история!
05.01.2026 21:28
Сказка о Емеле и чуде игристом.
Лежал как-то Емеля на печи, в потолок плевал. Мать говорит: «Сходи, сынок, за водой, а то чаю не попьём». Неохота Емеле, да делать нечего. Пришёл он к реке, зачерпнул воды, а в ведре — щука. Да не простая, а чешуя золотом отливает.
— Отпусти меня, Емеля! — просит щука человечьим голосом. — Любое желание исполню.
Задумался Емеля: «Пиво пить — голова тяжела, шампанское — кошелёк пуст. Хочу такой напиток, чтоб и в нос стрелял, и на душе праздник был, и стоил копейки!»
— Будь по-твоему! — молвила щука. — Ступай домой, загляни в старую бочку.
Прибежал Емеля домой, крышку с бочки долой. А там — батюшки! — жидкость золотистая, пузырьки так и пляшут. Зачерпнул он ковш, попробовал.
— Ох, и славно! — воскликнул. — И не пиво горькое, и не квас кислый. Словно солнце в животе заиграло!
Мать подходит: «Ты чего, Емеля, шумишь?»
— Пробуй, матушка! Это «Игристо» от щуки в подарок.
Глотнула мать и заулыбалась: «И впрямь, словно помолодела! Легко-то как!»
Повёз Емеля бочку на рынок. Народ кругом толпится, пиво светлое да тёмное берёт.
— Эй, народ! — кричит Емеля. — Подходи, пробуй новинку! Называется «Игристо», радость в каждом глотке!
Подошёл купец толстый: «Ну-ка, дай отведать. Небось, кислятина?»
Глотнул купец, глаза округлил: «Вот это да! Игристое, свежее, а цена-то народная! Дай мне два литра, жене подарок сделаю, а то всё ворчит, что праздника нет».
Вмиг очередь выстроилась. Все кричат: «Мне «Игристо»! И мне на вечер!»
Дошли слухи до самого Царя. Вызвал он Емелю во дворец.
— Что за зелье у тебя, Емелюшка? — спрашивает Царь. — Почему народ весел, а казна не пустеет?
— Это, Царь-батюшка, напиток для души. Не для пафоса, а для радости ежедневной.
Налил Емеля Царю полный кубок. Царь выпил, усы вытер и говорит:
— Ай, да Емеля! Это ж лучше любого заморского вина. И голова светлая, и на сердце легко. Объявляю твой напиток главным на всех гуляньях!
С тех пор зажил Емеля припеваючи. В каждом кабачке теперь его напиток стоит. Люди заходят, говорят целовальнику: «Налей-ка мне «Игристо» литр-другой!»
Друг к другу в гости идут, «Игристо» несут. И на даче, и дома — везде праздник. А щука в реке плавает да радуется, что людям угодила. И я там был, «Игристо» пил, по усам текло, а в голове только радость осталась!
— Отпусти меня, Емеля! — просит щука человечьим голосом. — Любое желание исполню.
Задумался Емеля: «Пиво пить — голова тяжела, шампанское — кошелёк пуст. Хочу такой напиток, чтоб и в нос стрелял, и на душе праздник был, и стоил копейки!»
— Будь по-твоему! — молвила щука. — Ступай домой, загляни в старую бочку.
Прибежал Емеля домой, крышку с бочки долой. А там — батюшки! — жидкость золотистая, пузырьки так и пляшут. Зачерпнул он ковш, попробовал.
— Ох, и славно! — воскликнул. — И не пиво горькое, и не квас кислый. Словно солнце в животе заиграло!
Мать подходит: «Ты чего, Емеля, шумишь?»
— Пробуй, матушка! Это «Игристо» от щуки в подарок.
Глотнула мать и заулыбалась: «И впрямь, словно помолодела! Легко-то как!»
Повёз Емеля бочку на рынок. Народ кругом толпится, пиво светлое да тёмное берёт.
— Эй, народ! — кричит Емеля. — Подходи, пробуй новинку! Называется «Игристо», радость в каждом глотке!
Подошёл купец толстый: «Ну-ка, дай отведать. Небось, кислятина?»
Глотнул купец, глаза округлил: «Вот это да! Игристое, свежее, а цена-то народная! Дай мне два литра, жене подарок сделаю, а то всё ворчит, что праздника нет».
Вмиг очередь выстроилась. Все кричат: «Мне «Игристо»! И мне на вечер!»
Дошли слухи до самого Царя. Вызвал он Емелю во дворец.
— Что за зелье у тебя, Емелюшка? — спрашивает Царь. — Почему народ весел, а казна не пустеет?
— Это, Царь-батюшка, напиток для души. Не для пафоса, а для радости ежедневной.
Налил Емеля Царю полный кубок. Царь выпил, усы вытер и говорит:
— Ай, да Емеля! Это ж лучше любого заморского вина. И голова светлая, и на сердце легко. Объявляю твой напиток главным на всех гуляньях!
С тех пор зажил Емеля припеваючи. В каждом кабачке теперь его напиток стоит. Люди заходят, говорят целовальнику: «Налей-ка мне «Игристо» литр-другой!»
Друг к другу в гости идут, «Игристо» несут. И на даче, и дома — везде праздник. А щука в реке плавает да радуется, что людям угодила. И я там был, «Игристо» пил, по усам текло, а в голове только радость осталась!
01.01.2026 20:07
Степные были и полночные думы. Тень на плетень.
Была ли на свете деревенька богаче и краше нашего сельца Сокорявка, того сказать не берусь, ибо дальше околицы я хаживала редко. Но что была она самая голосистая, звонкая да переимчивая на всякие слухи — то истинная правда, за которую любой мужик последнюю рубаху бы отдал.
И жила в том сельце бабка, Акулиной по имени, а по прозвищу — Сорока-на-хвосте. Не была она стара, чтоб уж совсем на печи кости греть, но и не молода, чтоб в хороводах с нами, девками, плясать. Возраст у неё был самый что ни на есть подходящий: когда ум уже должен быть, а язык ещё не отсох. И уж языком своим Акулина владела так, что иному старосте впору поучиться.
С самого утра, едва солнце лениво потягивалось за рощей, Акулина уже стояла у своего плетня, озирая деревню орлиным взором. Увидит, что у соседа Прохора дымок из трубы пошёл жиже обычного — значит, дрова сырые, хозяин ленив. Заметит, что у Дуняши дочка надела ленту не того цвета — значит, верный знак, что на уме у девки недоброе. И уж неслась её весть по избам, обрастая такими подробностями, что к обеду из жидкого дымка вырастала целая история о Прохоровой лени и грядущем разорении, а из ленточки — повесть о тайном свидании и позоре на всю семью.
Любила она заявиться в чужую избу без стука, усесться на лавку, будто своя, и начать издалека: «А что это, милая, у тебя фикус чахнет? Не к добру это... Ой, не к добру. Говорят, цветок этот чует, когда в семье разлад...». И вот уже через час муж с женой, что жили душа в душу, смотрят друг на друга волками, вспоминая, кто кому намедни слово кривое сказал. А Акулина сидит, головой качает сочувственно, а в глазах — бесенята пляшут.
Но не только языком своим была она сильна. Мы, бабы, шёпотом поговаривали, что знает она слово тайное. Могла шепнуть что-то вслед корове, и та молока давать переставала. Могла бросить в чужой огород сухую былинку, и самый добрый урожай начинал гнить на корню. Кто-то видел, как она по ночам у старого колодца с собственной тенью беседует, а тень ей, будто живая, кивает. Иной раз соберёт трав каких-то пахучих, заварит, и вот уже у девки, на которую все парни заглядывались, на лице чирьи высыпали, а у той, что считалась дурнушкой, коса до пояса за неделю отрастала, да только становилась седой, как у старухи.
И боялись мы её пуще огня, и сторонились. Никто не шёл к ней за помощью, ибо знали: помощь Акулины всегда боком выйдет, и заберёт она плату не монетой, а удачей, здоровьем или миром в семье. Так и жила она, хозяйкой всех деревенских страхов и ссор, упиваясь своей недоброй властью, и сама не знала, что однажды придётся ей столкнуться с силой, что посильнее её шепотков и сплетен будет...
Всякая змея ищет себе пару, и Акулина не была исключением. Была у неё в деревне одна душа, которую она привечала — девка Фёкла, молодая, чернобровая, а нравом — вылитая Акулина, только что без морщин да седины. Годилась она ей в дочки, а то и во внучки, но кто ж такие души по летам считает? Их по черноте сродняют.
Фёкла эта была бестия, каких свет не видывал. У неё не было ни власти тайной, ни знания трав, но была в ней злость природная, жгучая. Пройдёт мимо чужого двора, где бельё на верёвке сохнет, да и «случайно» зацепит подол самой чистой рубахи грязной палкой. Услышит, как мужик жену ласково окликнул, и тут же пустит по деревне слушок, что неспроста он такой добренький, видать, грех свой замаливает. А как сделает пакость или скажет слово едкое, так глаза её чёрные загорались таким нехорошим, бесовским огнём, что мы крестились ей вслед.
И вот сошлись они, две эти натуры поганые. Повадилась Фёкла к Акулине в избу захаживать. Сядут они у окна, грызут семечки, да и перемывают косточки всей деревне. Акулина начнёт: «А видела, как у попадьи грибы под лавкой сохнут? Знать, пост не блюдут, греховодники...». А Фёкла тут же подхватит, да и добавит перцу: «Так то ж не грибы, матушка Акулина! То ж ей полюбовник тайный из города гостинцы возит, а от мужа прячет!». И хохочут обе так, что вороны с крыши слетают.
Мы, люди, дивились этой дружбе. Что нашла баба старая в девке молодой? А та, что к ней льнёт, будто мёдом ей там намазано? Не понимали мы, что злость, как и любовь, возраста не знает. Акулина в Фёкле видела свою молодость, свою удаль нерастраченную, а Фёкла у старой ведьмы училась мудрости — как одним словом семью разрушить, как одним взглядом удачу у человека отнять. Они были как два кривых зеркала, что отражали друг в друге самую тёмную свою суть, и отражение это им дюже нравилось.
Так и текли их дни, в сплетнях да пересудах. И не ведали они, что скоро придёт в нашу деревню такое событие, которое и их дружбу на прочность проверит, и заставит каждую показать своё истинное, неприкрытое лицо.
Шло время. Сельцо наше, Сокорявка, всё так же жило своей жизнью: мужики уходили в поле, мы, бабы, вели хозяйство, дети играли у реки. Но над всем этим висела незримая паутина, сплетённая из злых языков Акулины и Фёклы. Ссоры в семьях стали чаще, урожай у тех, на кого бабы косо глянули, и впрямь хирел, а радость из деревни, будто по капле уходила. И вот, в один из летних дней, когда солнце палило нещадно и даже собаки попрятались в тень, в деревню пришёл человек. Не приехал на телеге, не прискакал на коне, а просто пришёл пешком со стороны поля. Был он не стар и не молод, одет в простую холщовую рубаху, а за плечами нёс лишь небольшую котомку. Лицо его было обычное, ничем не примечательное, вот только глаза... Глаза у него были ясные, как родниковая вода, и смотрели они так, будто видели не одежду и кожу, а самую душу человеческую.
Назвался он Лукой. Сказал, что идёт издалека, и попросил лишь воды да позволения отдохнуть в тени старой ивы у колодца. Мы, деревенские, были хоть и измучены ссорами, но гостеприимства не растеряли. Вынесла ему молока добрая вдова Марфа, чей сын недавно из-за наговоров Фёклы подрался с лучшим другом. Подал краюху хлеба старый дед Афанасий, которому Акулина напророчила хворобу в ногах.
Лука принял угощение с поклоном, поел, а после достал из своей котомки... простую деревянную дудочку. И заиграл. И полилась над деревней такая мелодия, какой здесь отродясь не слыхивали. Не весёлая плясовая, и не грустная застольная песня. Мелодия была тихая, спокойная, и было в ней что-то от шелеста листвы, от журчания ручья, от дыхания спящего дитя.
И стали происходить чудеса. У вдовы Марфы, что слушала музыку, сама собой разгладилась горькая складка меж бровей. Дед Афанасий вдруг почувствовал, что нога, которая ныла с самого утра, перестала болеть. Две соседки, что не разговаривали уже месяц, переглянулись и неловко улыбнулись друг другу. Музыка Луки не лечила тела, нет. Она будто бы смывала с души всю грязь, всю злобу и обиду, что накопились там за долгое время.
Конечно же, весть о чудном музыканте тут же долетела до Акулины. «Ишь ты, святой нашёлся!» — прошипела она Фёкле, что сидела рядом. «Надобно пойти поглядеть на это чудо-юдо. Уж мы-то ему сыграем свою песенку!». И, переглянувшись со своей молодой подружкой, предвкушая новую пакость, она направилась к колодцу, где вокруг Луки уже собралась, почти вся наша деревня.
Акулина с Фёклой шли через толпу, как два ножа сквозь масло. Мы расступались, пряча глаза, и там, где они проходили, музыка будто бы становилась тише, а на лицах вновь проступала тень тревоги. Они подошли и встали прямо перед Лукой, заслонив собой солнце.
Музыкант доиграл свою мелодию до конца, опустил дудочку и поднял на них свои ясные глаза. Он не хмурился, не выказывал ни страха, ни гнева. Он просто смотрел, и от этого взгляда Акулине впервые в жизни стало как-то не по себе. Будто стояла она нагая посреди площади, и вся её чёрная душонка была видна каждому.
«Что ж ты, мил человек, народ тут смущаешь своими трелями?» — проскрипела Акулина, стараясь вернуть себе былую уверенность.
«От работы отвлекаешь, головы дурманишь. Не иначе как колдун ты заезжий, порчу на деревню навести хочешь!»
Фёкла тут же поддакнула, выставив вперёд острый подбородок: «А и правда! Глядите, люди добрые! Сидит, в дудку дует, а у вас, поди, уже и куры нестись перестали, и молоко в погребах скисло! Он вашу удачу себе в дудку-то и выдувает!»
Они ждали, что сейчас мы, сельчане, загомоним, зашумим, поддержим их, как бывало всегда. Но мы молчали. Мы смотрели то на злобные, перекошенные лица двух баб, то на спокойное лицо Луки, и музыка его всё ещё звучала у нас в сердцах. И в этой тишине слова их, обычно такие веские и ядовитые, прозвучали глупо и смешно.
Лука улыбнулся краешком губ. «Я никого не смущаю, хозяюшка. Я лишь играю то, что слышу в душах людских. В ком-то слышу тихую речку, в ком-то — песню жаворонка. А вот в вас...» — он помолчал, вглядываясь в Акулину, — «...в вас я слышу лишь скрип сухого дерева да шипение змеи в крапиве».
Потом он повернул голову к Фёкле, и взгляд его стал печальным. «А в тебе, девица, и того нет. В тебе — тишина. Пустота, будто в разбитом горшке, где ничего не держится — ни вода, ни зерно, ни добро, ни зло. Лишь гулкий ветер гуляет».
Слова эти были сказаны тихо, без злобы, но ударили они по двум бестиям похлеще любого кнута. Акулина задохнулась от ярости — впервые кто-то посмел не испугаться её, а дать отповедь! А Фёкла вдруг побледнела. «Пустота»... Это слово кольнуло её в самое сердце, потому что было правдой. Вся её злость была лишь для того, чтобы заполнить эту пустоту внутри.
«Ах ты, бродяга!» — взвизгнула Акулина, теряя остатки разума. «Да я тебя!..» Она шагнула вперёд и выхватила у Луки из рук дудочку, чтобы сломать её о колено. Но едва её пальцы коснулись гладкого, тёплого дерева, как дудочка сама собой издала один-единственный звук. Не мелодичный, а резкий, дребезжащий, похожий на крик потревоженной сороки. И в этот миг Акулина, словно увидела... нечто.
Мы не знаем, что именно она увидела, но лицо её исказилось от ужаса. Она вскрикнула, отшвырнула дудочку, будто та была раскалённым железом, и, зажав голову руками, бросилась бежать. Бежала, не разбирая дороги, спотыкаясь, сшибая людей, прочь от колодца, прочь от этих ясных глаз, прочь от страшного образа, что явился ей одной.
Фёкла же, увидев ужас на лице своей наставницы, застыла на месте. Она не видела того, что увидела Акулина. Но когда дудочка упала на землю, она тоже издала звук — тихий, жалобный, похожий на свист ветра в пустой печной трубе. И в этот миг Фёкла почувствовала, как та самая пустота, о которой говорил Лука, начала расти внутри неё, заполняя всё её существо ледяным холодом. Она вдруг осознала, что вся её злость, все её пакости были лишь попыткой заставить других чувствовать хоть что-то, раз уж она сама ничего не чувствовала. А теперь и этого не осталось. Только звенящая, бездонная пустота.
Она медленно попятилась, глядя на Луку с суеверным страхом, развернулась и побрела прочь, но не вскачь, как Акулина, а медленно, ссутулившись, будто разом постарев на полсотни лет. Мы молча расступались перед ней.
Потом нам рассказывали, что Акулина добежала до своей избы, захлопнула дверь на все засовы и забилась в самый тёмный угол. И кричала там до самого утра, будто отбивалась от невидимых врагов. Говорят, её собственное зло, накопленное за долгие годы, обрушилось на неё и начало пожирать изнутри.
Фёкла же пришла в свой двор и села на крыльцо. Она смотрела на свои руки, на небо, на кур, копошившихся в пыли, и ничего не чувствовала. Ни радости, ни злости, ни печали. Мир стал для неё серым, лишенным ярких красок. Это было наказание страшнее смерти — жить, не чувствуя жизни.
А в нашей деревне тем временем происходило обратное. С уходом двух ведьм воздух очистился. Лука поднял свою дудочку, отряхнул её и снова заиграл. Но теперь это была другая мелодия — светлая, радостная, полная надежды. И мы, слушая её, начали улыбаться, заговаривать друг с другом, прощать старые обиды. Вдова Марфа подошла к матери того парня, с которым подрался её сын, и обняла её. Дед Афанасий громко рассмеялся, вспомнив весёлую историю из своей молодости. Жизнь и радость возвращались в наше сельцо Сокорявка.
И жила в том сельце бабка, Акулиной по имени, а по прозвищу — Сорока-на-хвосте. Не была она стара, чтоб уж совсем на печи кости греть, но и не молода, чтоб в хороводах с нами, девками, плясать. Возраст у неё был самый что ни на есть подходящий: когда ум уже должен быть, а язык ещё не отсох. И уж языком своим Акулина владела так, что иному старосте впору поучиться.
С самого утра, едва солнце лениво потягивалось за рощей, Акулина уже стояла у своего плетня, озирая деревню орлиным взором. Увидит, что у соседа Прохора дымок из трубы пошёл жиже обычного — значит, дрова сырые, хозяин ленив. Заметит, что у Дуняши дочка надела ленту не того цвета — значит, верный знак, что на уме у девки недоброе. И уж неслась её весть по избам, обрастая такими подробностями, что к обеду из жидкого дымка вырастала целая история о Прохоровой лени и грядущем разорении, а из ленточки — повесть о тайном свидании и позоре на всю семью.
Любила она заявиться в чужую избу без стука, усесться на лавку, будто своя, и начать издалека: «А что это, милая, у тебя фикус чахнет? Не к добру это... Ой, не к добру. Говорят, цветок этот чует, когда в семье разлад...». И вот уже через час муж с женой, что жили душа в душу, смотрят друг на друга волками, вспоминая, кто кому намедни слово кривое сказал. А Акулина сидит, головой качает сочувственно, а в глазах — бесенята пляшут.
Но не только языком своим была она сильна. Мы, бабы, шёпотом поговаривали, что знает она слово тайное. Могла шепнуть что-то вслед корове, и та молока давать переставала. Могла бросить в чужой огород сухую былинку, и самый добрый урожай начинал гнить на корню. Кто-то видел, как она по ночам у старого колодца с собственной тенью беседует, а тень ей, будто живая, кивает. Иной раз соберёт трав каких-то пахучих, заварит, и вот уже у девки, на которую все парни заглядывались, на лице чирьи высыпали, а у той, что считалась дурнушкой, коса до пояса за неделю отрастала, да только становилась седой, как у старухи.
И боялись мы её пуще огня, и сторонились. Никто не шёл к ней за помощью, ибо знали: помощь Акулины всегда боком выйдет, и заберёт она плату не монетой, а удачей, здоровьем или миром в семье. Так и жила она, хозяйкой всех деревенских страхов и ссор, упиваясь своей недоброй властью, и сама не знала, что однажды придётся ей столкнуться с силой, что посильнее её шепотков и сплетен будет...
Всякая змея ищет себе пару, и Акулина не была исключением. Была у неё в деревне одна душа, которую она привечала — девка Фёкла, молодая, чернобровая, а нравом — вылитая Акулина, только что без морщин да седины. Годилась она ей в дочки, а то и во внучки, но кто ж такие души по летам считает? Их по черноте сродняют.
Фёкла эта была бестия, каких свет не видывал. У неё не было ни власти тайной, ни знания трав, но была в ней злость природная, жгучая. Пройдёт мимо чужого двора, где бельё на верёвке сохнет, да и «случайно» зацепит подол самой чистой рубахи грязной палкой. Услышит, как мужик жену ласково окликнул, и тут же пустит по деревне слушок, что неспроста он такой добренький, видать, грех свой замаливает. А как сделает пакость или скажет слово едкое, так глаза её чёрные загорались таким нехорошим, бесовским огнём, что мы крестились ей вслед.
И вот сошлись они, две эти натуры поганые. Повадилась Фёкла к Акулине в избу захаживать. Сядут они у окна, грызут семечки, да и перемывают косточки всей деревне. Акулина начнёт: «А видела, как у попадьи грибы под лавкой сохнут? Знать, пост не блюдут, греховодники...». А Фёкла тут же подхватит, да и добавит перцу: «Так то ж не грибы, матушка Акулина! То ж ей полюбовник тайный из города гостинцы возит, а от мужа прячет!». И хохочут обе так, что вороны с крыши слетают.
Мы, люди, дивились этой дружбе. Что нашла баба старая в девке молодой? А та, что к ней льнёт, будто мёдом ей там намазано? Не понимали мы, что злость, как и любовь, возраста не знает. Акулина в Фёкле видела свою молодость, свою удаль нерастраченную, а Фёкла у старой ведьмы училась мудрости — как одним словом семью разрушить, как одним взглядом удачу у человека отнять. Они были как два кривых зеркала, что отражали друг в друге самую тёмную свою суть, и отражение это им дюже нравилось.
Так и текли их дни, в сплетнях да пересудах. И не ведали они, что скоро придёт в нашу деревню такое событие, которое и их дружбу на прочность проверит, и заставит каждую показать своё истинное, неприкрытое лицо.
Шло время. Сельцо наше, Сокорявка, всё так же жило своей жизнью: мужики уходили в поле, мы, бабы, вели хозяйство, дети играли у реки. Но над всем этим висела незримая паутина, сплетённая из злых языков Акулины и Фёклы. Ссоры в семьях стали чаще, урожай у тех, на кого бабы косо глянули, и впрямь хирел, а радость из деревни, будто по капле уходила. И вот, в один из летних дней, когда солнце палило нещадно и даже собаки попрятались в тень, в деревню пришёл человек. Не приехал на телеге, не прискакал на коне, а просто пришёл пешком со стороны поля. Был он не стар и не молод, одет в простую холщовую рубаху, а за плечами нёс лишь небольшую котомку. Лицо его было обычное, ничем не примечательное, вот только глаза... Глаза у него были ясные, как родниковая вода, и смотрели они так, будто видели не одежду и кожу, а самую душу человеческую.
Назвался он Лукой. Сказал, что идёт издалека, и попросил лишь воды да позволения отдохнуть в тени старой ивы у колодца. Мы, деревенские, были хоть и измучены ссорами, но гостеприимства не растеряли. Вынесла ему молока добрая вдова Марфа, чей сын недавно из-за наговоров Фёклы подрался с лучшим другом. Подал краюху хлеба старый дед Афанасий, которому Акулина напророчила хворобу в ногах.
Лука принял угощение с поклоном, поел, а после достал из своей котомки... простую деревянную дудочку. И заиграл. И полилась над деревней такая мелодия, какой здесь отродясь не слыхивали. Не весёлая плясовая, и не грустная застольная песня. Мелодия была тихая, спокойная, и было в ней что-то от шелеста листвы, от журчания ручья, от дыхания спящего дитя.
И стали происходить чудеса. У вдовы Марфы, что слушала музыку, сама собой разгладилась горькая складка меж бровей. Дед Афанасий вдруг почувствовал, что нога, которая ныла с самого утра, перестала болеть. Две соседки, что не разговаривали уже месяц, переглянулись и неловко улыбнулись друг другу. Музыка Луки не лечила тела, нет. Она будто бы смывала с души всю грязь, всю злобу и обиду, что накопились там за долгое время.
Конечно же, весть о чудном музыканте тут же долетела до Акулины. «Ишь ты, святой нашёлся!» — прошипела она Фёкле, что сидела рядом. «Надобно пойти поглядеть на это чудо-юдо. Уж мы-то ему сыграем свою песенку!». И, переглянувшись со своей молодой подружкой, предвкушая новую пакость, она направилась к колодцу, где вокруг Луки уже собралась, почти вся наша деревня.
Акулина с Фёклой шли через толпу, как два ножа сквозь масло. Мы расступались, пряча глаза, и там, где они проходили, музыка будто бы становилась тише, а на лицах вновь проступала тень тревоги. Они подошли и встали прямо перед Лукой, заслонив собой солнце.
Музыкант доиграл свою мелодию до конца, опустил дудочку и поднял на них свои ясные глаза. Он не хмурился, не выказывал ни страха, ни гнева. Он просто смотрел, и от этого взгляда Акулине впервые в жизни стало как-то не по себе. Будто стояла она нагая посреди площади, и вся её чёрная душонка была видна каждому.
«Что ж ты, мил человек, народ тут смущаешь своими трелями?» — проскрипела Акулина, стараясь вернуть себе былую уверенность.
«От работы отвлекаешь, головы дурманишь. Не иначе как колдун ты заезжий, порчу на деревню навести хочешь!»
Фёкла тут же поддакнула, выставив вперёд острый подбородок: «А и правда! Глядите, люди добрые! Сидит, в дудку дует, а у вас, поди, уже и куры нестись перестали, и молоко в погребах скисло! Он вашу удачу себе в дудку-то и выдувает!»
Они ждали, что сейчас мы, сельчане, загомоним, зашумим, поддержим их, как бывало всегда. Но мы молчали. Мы смотрели то на злобные, перекошенные лица двух баб, то на спокойное лицо Луки, и музыка его всё ещё звучала у нас в сердцах. И в этой тишине слова их, обычно такие веские и ядовитые, прозвучали глупо и смешно.
Лука улыбнулся краешком губ. «Я никого не смущаю, хозяюшка. Я лишь играю то, что слышу в душах людских. В ком-то слышу тихую речку, в ком-то — песню жаворонка. А вот в вас...» — он помолчал, вглядываясь в Акулину, — «...в вас я слышу лишь скрип сухого дерева да шипение змеи в крапиве».
Потом он повернул голову к Фёкле, и взгляд его стал печальным. «А в тебе, девица, и того нет. В тебе — тишина. Пустота, будто в разбитом горшке, где ничего не держится — ни вода, ни зерно, ни добро, ни зло. Лишь гулкий ветер гуляет».
Слова эти были сказаны тихо, без злобы, но ударили они по двум бестиям похлеще любого кнута. Акулина задохнулась от ярости — впервые кто-то посмел не испугаться её, а дать отповедь! А Фёкла вдруг побледнела. «Пустота»... Это слово кольнуло её в самое сердце, потому что было правдой. Вся её злость была лишь для того, чтобы заполнить эту пустоту внутри.
«Ах ты, бродяга!» — взвизгнула Акулина, теряя остатки разума. «Да я тебя!..» Она шагнула вперёд и выхватила у Луки из рук дудочку, чтобы сломать её о колено. Но едва её пальцы коснулись гладкого, тёплого дерева, как дудочка сама собой издала один-единственный звук. Не мелодичный, а резкий, дребезжащий, похожий на крик потревоженной сороки. И в этот миг Акулина, словно увидела... нечто.
Мы не знаем, что именно она увидела, но лицо её исказилось от ужаса. Она вскрикнула, отшвырнула дудочку, будто та была раскалённым железом, и, зажав голову руками, бросилась бежать. Бежала, не разбирая дороги, спотыкаясь, сшибая людей, прочь от колодца, прочь от этих ясных глаз, прочь от страшного образа, что явился ей одной.
Фёкла же, увидев ужас на лице своей наставницы, застыла на месте. Она не видела того, что увидела Акулина. Но когда дудочка упала на землю, она тоже издала звук — тихий, жалобный, похожий на свист ветра в пустой печной трубе. И в этот миг Фёкла почувствовала, как та самая пустота, о которой говорил Лука, начала расти внутри неё, заполняя всё её существо ледяным холодом. Она вдруг осознала, что вся её злость, все её пакости были лишь попыткой заставить других чувствовать хоть что-то, раз уж она сама ничего не чувствовала. А теперь и этого не осталось. Только звенящая, бездонная пустота.
Она медленно попятилась, глядя на Луку с суеверным страхом, развернулась и побрела прочь, но не вскачь, как Акулина, а медленно, ссутулившись, будто разом постарев на полсотни лет. Мы молча расступались перед ней.
Потом нам рассказывали, что Акулина добежала до своей избы, захлопнула дверь на все засовы и забилась в самый тёмный угол. И кричала там до самого утра, будто отбивалась от невидимых врагов. Говорят, её собственное зло, накопленное за долгие годы, обрушилось на неё и начало пожирать изнутри.
Фёкла же пришла в свой двор и села на крыльцо. Она смотрела на свои руки, на небо, на кур, копошившихся в пыли, и ничего не чувствовала. Ни радости, ни злости, ни печали. Мир стал для неё серым, лишенным ярких красок. Это было наказание страшнее смерти — жить, не чувствуя жизни.
А в нашей деревне тем временем происходило обратное. С уходом двух ведьм воздух очистился. Лука поднял свою дудочку, отряхнул её и снова заиграл. Но теперь это была другая мелодия — светлая, радостная, полная надежды. И мы, слушая её, начали улыбаться, заговаривать друг с другом, прощать старые обиды. Вдова Марфа подошла к матери того парня, с которым подрался её сын, и обняла её. Дед Афанасий громко рассмеялся, вспомнив весёлую историю из своей молодости. Жизнь и радость возвращались в наше сельцо Сокорявка.
06.12.2025 14:23
Сказка "Кому нужна зима?"
В некотором лесу, под шапками снежными, собрались как-то на полянке звери. Мороз трещал, а у них спор был жаркий. Первым слово взял Медведь, Потапыч, высунув нос из берлоги.
— Эх, скука! — пробасил он. — Опять зима! Лежи теперь, лапу соси. Кому она вообще нужна, эта ваша зима?
Тут из-за сугроба выскочил Заяц, уши торчком, весь от возмущения дрожит.
— Как это кому, Потапыч?! А шубку белую мне на что менять? Я в ней модный, незаметный! Красота! Да и от Волка по насту бежать — одно удовольствие! Проваливается, серый, а я лечу!
Из-за ёлки выглянула хитрая Лиса, хвостом повела.
— Бегать, косой, это твой удел. А я вот следы на снегу читать люблю. Сразу видно, где куропатка ночевала, где мышка пробежала. Зима — это же открытая книга для охотника! А ты, Потапыч, спишь, всё пропустишь.
— Да что мне ваши мышки! — обиделся Медведь. — Мне бы малинки, медку... А тут только снег этот скрипучий.
На ветку сосны уселась старая Ворона и нравоучительно каркнула:
— Карр! Глупые вы! Зима — это порядок! Природа спит, силы копит. А вы всё о себе да о себе. Вот я сверху летаю, всё вижу: лес как в серебре, тишина, покой... Романтика!
— Какая романтика?! — встрял Волк, выходя из-за деревьев. — Зубы от холода стучат! За Зайцем этим гоняешься — весь в снегу будешь! Никакой романтики, сплошная физкультура!
— А я говорю — мода! — не унимался Заяц.
— А я говорю — охота! — вторила Лиса.
— А я говорю — спать пора! — зевнул Медведь.
— Порядок! — каркнула Ворона.
— Физкультура! — прорычал Волк.
Так они и спорили, пока с ёлки им на головы не упал большой ком снега. Все разом замолчали, отряхиваясь. А потом Заяц как прыснет со смеху, глядя на Волка с белой шапкой на голове. За ним и Лиса хихикнула, а там уж и все остальные. Даже Медведь улыбнулся в усы.
И поняли они, что зима для каждого своя, и спорить тут не о чем. А лучше пойти Зайцу — морковку мороженую грызть, Лисе — следы читать, Волку — физкультурой заниматься, а Медведю — досматривать сладкие сны о лете. Каждому своё!
— Эх, скука! — пробасил он. — Опять зима! Лежи теперь, лапу соси. Кому она вообще нужна, эта ваша зима?
Тут из-за сугроба выскочил Заяц, уши торчком, весь от возмущения дрожит.
— Как это кому, Потапыч?! А шубку белую мне на что менять? Я в ней модный, незаметный! Красота! Да и от Волка по насту бежать — одно удовольствие! Проваливается, серый, а я лечу!
Из-за ёлки выглянула хитрая Лиса, хвостом повела.
— Бегать, косой, это твой удел. А я вот следы на снегу читать люблю. Сразу видно, где куропатка ночевала, где мышка пробежала. Зима — это же открытая книга для охотника! А ты, Потапыч, спишь, всё пропустишь.
— Да что мне ваши мышки! — обиделся Медведь. — Мне бы малинки, медку... А тут только снег этот скрипучий.
На ветку сосны уселась старая Ворона и нравоучительно каркнула:
— Карр! Глупые вы! Зима — это порядок! Природа спит, силы копит. А вы всё о себе да о себе. Вот я сверху летаю, всё вижу: лес как в серебре, тишина, покой... Романтика!
— Какая романтика?! — встрял Волк, выходя из-за деревьев. — Зубы от холода стучат! За Зайцем этим гоняешься — весь в снегу будешь! Никакой романтики, сплошная физкультура!
— А я говорю — мода! — не унимался Заяц.
— А я говорю — охота! — вторила Лиса.
— А я говорю — спать пора! — зевнул Медведь.
— Порядок! — каркнула Ворона.
— Физкультура! — прорычал Волк.
Так они и спорили, пока с ёлки им на головы не упал большой ком снега. Все разом замолчали, отряхиваясь. А потом Заяц как прыснет со смеху, глядя на Волка с белой шапкой на голове. За ним и Лиса хихикнула, а там уж и все остальные. Даже Медведь улыбнулся в усы.
И поняли они, что зима для каждого своя, и спорить тут не о чем. А лучше пойти Зайцу — морковку мороженую грызть, Лисе — следы читать, Волку — физкультурой заниматься, а Медведю — досматривать сладкие сны о лете. Каждому своё!
06.12.2025 12:48
Небылицы станицы. Говорящий сом.
Заря в станице только-только занималась, как атаман Афанасий уже сидел на берегу Урала с удочкой. Рядом дремал его кум, казак Прохор, обняв пустой жбан из-под кваса. Вдруг удочку Афанасия так дёрнуло, что он чуть в реку не улетел.
— Прохор, проснись, леший тебя задери! Тащу! Кажись, саму русалку за косу поймал!
Прохор открыл один глаз:
— Опять? В прошлый раз твоей «русалкой» оказался старый валенок с ракушками.
Но тут из воды показалась огромная сомовья голова, размером с большой казан. Сом посмотрел на казаков и... подмигнул.
— Ну, здорово, рыбаки! — пробасил сом. — Клюёт?
Прохор икнул и перекрестился. Атаман же, человек бывалый, лишь крякнул:
— Клюёт, да не на твою честь. А ты чего это, рыбий сын, человеческим голосом говоришь?
— Так от скуки, — вздохнул сом. — Сидишь тут на дне веками, одна тина да коряги. Хоть с кем-то словом обмолвиться.
Атаман почесал в затылке.
— И что ж ты, говорящий, от нас хочешь?
— Отпустите меня, Афанасий Матвеевич, — попросил сом. — Я вам за это три желания исполню. Любые, кроме «достать луну с неба» и «сделать тёщу доброй». Тут даже моя магия бессильна.
Прохор тут же встрепенулся:
— Атаман, соглашайся! Попросим у него жбан самонаполняющийся! Чтоб квас никогда не кончался!
— Молчи, пьянчуга! — прикрикнул Афанасий. — Тут дела такие вырисовываются, а он про квас! Тут основательно поразмыслить надо.
— Думайте, — согласился сом. — Только недолго, а то жабры сохнут.
— Ладно, — решил атаман. — Первое желание такое: пусть у моего коня Буяна грива станет золотой, чтоб все соседние станицы от зависти лопнули!
Сом хмыкнул, вильнул хвостом, и Афанасий отпустил леску. Рыба ушла на глубину. Кумовья переглянулись и помчались в станицу. А там уже переполох! Конь Буян стоял посреди двора и сиял на солнце так, что слепило глаза. Грива и хвост его были из чистого золота.
К вечеру по станице поползли слухи. Баба Степанида божилась, что видела, как атаман с самим водяным договор подписывал. А дьячок местный шептал, что это не иначе как атаман нашёл клад.
Радость атамана была недолгой. Во-первых, конь стал тяжёлый, как наковальня, и еле ноги передвигал. Во-вторых, каждую ночь приходилось ставить у конюшни караул, потому что всякий норовил отщипнуть от Буяна золотой волосок на память. А в-третьих, жена атамана, Галина, пилила его с утра до вечера:
— Ну что это за конь? Ни в поле на нём, ни в бой! Только пыль протирать! Давай лучше продадим его, купим пять обычных и мне сапожки новые, красные!
— Негоже боевого коня продавать! — упирался атаман, но в душе понимал, что Галина права.
На следующее утро Афанасий снова сидел на берегу.
— Эй, чешуйчатый! Вылезай!
Сом нехотя показался из воды.
— Чего тебе, атаман? Опять чудишь?
— Забирай своё золото обратно! — взмолился атаман. — И сделай так, чтоб моя Галина на неделю дар речи потеряла. А то житья от неё нет!
Сом вздохнул, но желание исполнил. Атаман вернулся домой — тишь и благодать. Галина смотрит на него, губами шевелит, а сказать ничего не может. Только руками машет. Но уже через час вся станица гудела: «Атаман жену проклял! Сглазил! Она теперь немая!» Бабы прибежали Галину жалеть, принесли ей молоко с мёдом и стали хором ругать Афанасия.
Лишившись голоса, Галина открыла в себе другие таланты. Она так выразительно смотрела на мужа, что ему становилось хуже, чем сказала бы она это вслух. Если он приходил поздно, она встречала его с укоризной во взгляде, от которой хотелось провалиться сквозь землю. Если брал лишнюю чарку — смотрела так, что водка в горло не лезла. Через три дня атаман понял, что молчаливая жена — это гораздо страшнее, чем говорящая.
На четвёртый день Афанасий Матвеевич, не дожидаясь рассвета, примчался к реке.
— Сом! Друг ты мой любезный! Спасай!
— Опять не так? — проворчал сом, выплывая. — Ну, что на этот раз?
— Верни всё, как было! — взмолился атаман. — И голос жене, и гриву коню! Ничего мне не надо, только бы по-старому всё стало!
— То есть, третье желание — отменить два предыдущих? — уточнил сом.
— Да! Да! Именно так!
Сом тяжело вздохнул, как старый философ, вильнув хвостом в последний раз, скрылся в речной глубине.
Афанасий прибежал домой. Буян ржал в конюшне, тряся обычной каштановой гривой. А с кухни доносился звонкий голос Галины:
— Афанасий, ирод! ты где шляешься с утра пораньше?! А ну иди сюда, я тебе завтрак приготовила!
Атаман чуть не расплакался от счастья. Он влетел в избу, обнял жену и сказал:
— Галочка, как же я рад тебя слышать!
Вечером Афанасий Матвеевич сидел с Прохором под старой вербой.
— Эх, кум, — вздыхал атаман. — Было у меня три желания, а я дурак дураком оказался.
Прохор похлопал его по плечу.
— Не горюй, атаман. Зато теперь ты знаешь, что золотой конь — обуза, а молчаливая жена — наказание. А это, знаешь ли, мудрость. А мудрость дороже всякого золота.
— И то верно, — согласился. — А знаешь, чего я сейчас больше всего хочу?
— Чего?
— Ухи. Простой, наваристой ухи. Из обычного, неразговорчивого сома.
С тех пор в станице, когда кто-то жаловался на жизнь, ему говорили: «Ты сходи к атаману, он тебе расскажет про золотого коня и немую жену». И все понимали, что лучшее волшебство — это когда всё идёт своим чередом. А говорящих сомов, если и ловили, то сразу отпускали. От греха подальше.
— Прохор, проснись, леший тебя задери! Тащу! Кажись, саму русалку за косу поймал!
Прохор открыл один глаз:
— Опять? В прошлый раз твоей «русалкой» оказался старый валенок с ракушками.
Но тут из воды показалась огромная сомовья голова, размером с большой казан. Сом посмотрел на казаков и... подмигнул.
— Ну, здорово, рыбаки! — пробасил сом. — Клюёт?
Прохор икнул и перекрестился. Атаман же, человек бывалый, лишь крякнул:
— Клюёт, да не на твою честь. А ты чего это, рыбий сын, человеческим голосом говоришь?
— Так от скуки, — вздохнул сом. — Сидишь тут на дне веками, одна тина да коряги. Хоть с кем-то словом обмолвиться.
Атаман почесал в затылке.
— И что ж ты, говорящий, от нас хочешь?
— Отпустите меня, Афанасий Матвеевич, — попросил сом. — Я вам за это три желания исполню. Любые, кроме «достать луну с неба» и «сделать тёщу доброй». Тут даже моя магия бессильна.
Прохор тут же встрепенулся:
— Атаман, соглашайся! Попросим у него жбан самонаполняющийся! Чтоб квас никогда не кончался!
— Молчи, пьянчуга! — прикрикнул Афанасий. — Тут дела такие вырисовываются, а он про квас! Тут основательно поразмыслить надо.
— Думайте, — согласился сом. — Только недолго, а то жабры сохнут.
— Ладно, — решил атаман. — Первое желание такое: пусть у моего коня Буяна грива станет золотой, чтоб все соседние станицы от зависти лопнули!
Сом хмыкнул, вильнул хвостом, и Афанасий отпустил леску. Рыба ушла на глубину. Кумовья переглянулись и помчались в станицу. А там уже переполох! Конь Буян стоял посреди двора и сиял на солнце так, что слепило глаза. Грива и хвост его были из чистого золота.
К вечеру по станице поползли слухи. Баба Степанида божилась, что видела, как атаман с самим водяным договор подписывал. А дьячок местный шептал, что это не иначе как атаман нашёл клад.
Радость атамана была недолгой. Во-первых, конь стал тяжёлый, как наковальня, и еле ноги передвигал. Во-вторых, каждую ночь приходилось ставить у конюшни караул, потому что всякий норовил отщипнуть от Буяна золотой волосок на память. А в-третьих, жена атамана, Галина, пилила его с утра до вечера:
— Ну что это за конь? Ни в поле на нём, ни в бой! Только пыль протирать! Давай лучше продадим его, купим пять обычных и мне сапожки новые, красные!
— Негоже боевого коня продавать! — упирался атаман, но в душе понимал, что Галина права.
На следующее утро Афанасий снова сидел на берегу.
— Эй, чешуйчатый! Вылезай!
Сом нехотя показался из воды.
— Чего тебе, атаман? Опять чудишь?
— Забирай своё золото обратно! — взмолился атаман. — И сделай так, чтоб моя Галина на неделю дар речи потеряла. А то житья от неё нет!
Сом вздохнул, но желание исполнил. Атаман вернулся домой — тишь и благодать. Галина смотрит на него, губами шевелит, а сказать ничего не может. Только руками машет. Но уже через час вся станица гудела: «Атаман жену проклял! Сглазил! Она теперь немая!» Бабы прибежали Галину жалеть, принесли ей молоко с мёдом и стали хором ругать Афанасия.
Лишившись голоса, Галина открыла в себе другие таланты. Она так выразительно смотрела на мужа, что ему становилось хуже, чем сказала бы она это вслух. Если он приходил поздно, она встречала его с укоризной во взгляде, от которой хотелось провалиться сквозь землю. Если брал лишнюю чарку — смотрела так, что водка в горло не лезла. Через три дня атаман понял, что молчаливая жена — это гораздо страшнее, чем говорящая.
На четвёртый день Афанасий Матвеевич, не дожидаясь рассвета, примчался к реке.
— Сом! Друг ты мой любезный! Спасай!
— Опять не так? — проворчал сом, выплывая. — Ну, что на этот раз?
— Верни всё, как было! — взмолился атаман. — И голос жене, и гриву коню! Ничего мне не надо, только бы по-старому всё стало!
— То есть, третье желание — отменить два предыдущих? — уточнил сом.
— Да! Да! Именно так!
Сом тяжело вздохнул, как старый философ, вильнув хвостом в последний раз, скрылся в речной глубине.
Афанасий прибежал домой. Буян ржал в конюшне, тряся обычной каштановой гривой. А с кухни доносился звонкий голос Галины:
— Афанасий, ирод! ты где шляешься с утра пораньше?! А ну иди сюда, я тебе завтрак приготовила!
Атаман чуть не расплакался от счастья. Он влетел в избу, обнял жену и сказал:
— Галочка, как же я рад тебя слышать!
Вечером Афанасий Матвеевич сидел с Прохором под старой вербой.
— Эх, кум, — вздыхал атаман. — Было у меня три желания, а я дурак дураком оказался.
Прохор похлопал его по плечу.
— Не горюй, атаман. Зато теперь ты знаешь, что золотой конь — обуза, а молчаливая жена — наказание. А это, знаешь ли, мудрость. А мудрость дороже всякого золота.
— И то верно, — согласился. — А знаешь, чего я сейчас больше всего хочу?
— Чего?
— Ухи. Простой, наваристой ухи. Из обычного, неразговорчивого сома.
С тех пор в станице, когда кто-то жаловался на жизнь, ему говорили: «Ты сходи к атаману, он тебе расскажет про золотого коня и немую жену». И все понимали, что лучшее волшебство — это когда всё идёт своим чередом. А говорящих сомов, если и ловили, то сразу отпускали. От греха подальше.
17.11.2025 12:18
Приключение в канун дня рождения Дедушки Мороза
В канун своего дня рождения, Дед Мороз был не в духе. Он сидел на ледяном троне, подперев кулаком седую бороду, и хмуро смотрел в окно, за которым Снегурочка и снеговики украшали двор.
— Ну что за напасть! — проворчал он так, что с потолка посыпался иней. — Каждый год одно и то же. Подарки детям, ёлки, хороводы... А про мой день рождения кто вспомнит? Никто!
В этот момент дверь со скрипом отворилась, и в тронный зал вкатилась Зайчиха с огромным подносом. На подносе возвышался торт. Да не простой, а трёхъярусный, из морковного бисквита, с кремом из взбитых облаков и украшенный ледяными розами.
— Дедушка Мороз! — пискнула Зайчиха. — Мы тут с лесными жителями... это... сюрприз приготовили! С днём рождения!
Дед Мороз аж подпрыгнул от неожиданности. Борода его распушилась, а глаза засияли, как две полярные звезды.
— Торт? Мне? Вот это да! Спасибо, ушастая! Ну, уважила старика!
Он уже было потянулся за самой большой розой, как вдруг в тереме погас свет. Раздался какой-то грохот, свист, хлопок и чей-то ехидный смешок. Когда через мгновение свет снова зажёгся, все ахнули. Поднос был на месте. Зайчиха была на месте. А вот торта... торта не было! Только несколько крошек сиротливо лежали на серебряной глади.
— Ограбление! — крикнул Дед Мороз, вскакивая с трона. — Среди бела дня! Мой праздничный торт! Кто посмел?!
Снегурочка, прибежавшая на шум, всплеснула руками.
— Дедушка, успокойся! Кто это мог быть?
— Не знаю! — громыхнул Мороз, и по стенам пошли трещины. — Но я его найду! Клянусь своей бородой, найду! Это дело чести! Кто бы ни был этот негодяй, он ответит за испорченный праздник!
Он схватил свой посох, нахлобучил шапку и решительно направился к выходу. Снегурочка и перепуганная Зайчиха едва за ним поспевали.
— Но куда мы пойдём, дедушка? — спросила внучка. — У нас нет ни одной улики!
— Как это нет? — Дед Мороз указал посохом на пол. — А это что?
На белоснежном полу, рядом с подносом, лежало маленькое, чёрное, блестящее пёрышко.
Дед Мороз поднял пёрышко двумя пальцами и поднёс к глазам.
— Так-так-так... Чёрное. Блестящее. Не иначе как воронье! Ну, держись, пернатая воровка! Я тебе покажу, как у Деда Мороза торты воровать!
— Постой, дедушка! — остановила его Снегурочка. — В нашем лесу ворон — видимо-невидимо. Как ты найдёшь ту самую?
— Элементарно, внученька! — подмигнул Мороз. — Устроим допрос с пристрастием! Зайчиха, живо собери всех ворон на главной поляне! Скажи, Дед Мороз будет мандарины раздавать!
Зайчиха, всё ещё дрожа, кивнула и ускакала выполнять поручение. Через полчаса на поляне творилось нечто невообразимое. Сотни ворон слетелись на зов, каркая, толкаясь и требуя обещанных мандаринов.
Дед Мороз взобрался на пенёк, откашлялся и грозно стукнул посохом.
— Тишина в лесу! У меня к вам дело государственной важности! Кто-то из вас, бессовестных, похитил мой именинный торт!
Вороны возмущённо закаркали.
— Клевета! Мы — птицы честные!
— А где мандарины?
— Мы морковный бисквит не жалуем! Нам бы сыра кусочек!
Дед Мороз нахмурил брови.
— А ну, признавайтесь! Кто сегодня пёрышко потерял? Вот такое! — и он продемонстрировал улику.
Все вороны тут же принялись осматривать себя, своих соседей, хлопать крыльями. Шум стоял такой, что с ёлок посыпались шишки.
— Не я!
— И не я!
— У меня все на месте!
— А у Варвары, глядите, проплешина на хвосте!
Все взгляды тут же обратились на старую, облезлую ворону Варвару, которая сидела на самой верхушке сосны и делала вид, что чистит клюв.
— Ага! — грозно сказал Дед Мороз, указывая на неё посохом. — Попалась, голубушка! А ну, спускайся! Где мой торт?
Ворона Варвара медленно слетела вниз, шаркая лапами по снегу.
— Я, Дедушка Мороз, ничего не брала! А пёрышко... так это... линька у меня сезонная! Возрастное! Вот, справка от дятла-терапевта имеется!
И она действительно протянула ему какой-то погрызенный листочек. Дед Мороз растерялся. План "А" с треском провалился. Вороны, поняв, что мандаринов не будет, с обиженным карканьем стали разлетаться.
— Что же делать, дедушка? — вздохнула Снегурочка. — Похоже, это не ворона.
— Хм... — задумался Мороз, поглаживая бороду. — Если это не ворона... тогда кто? Перо чёрное... Может, это... филин? Но он же днём спит!
Вдруг из-за сугроба высунулась хитрая лисья морда. Это была Лиса Патрикеевна, местная сплетница и модница.
— Слыхала я вашу беду, Мороз Иванович, — пропела она медовым голосом. — И есть у меня одна мыслишка. Пёрышко-то не простое, а заграничное!
— Это ещё почему? — удивился Дед Мороз.
— А потому что оно пахнет! — заявила Лиса, принюхиваясь. — Пахнет... ананасами и далёкими морями! Таких птиц в нашем лесу отродясь не бывало! Искать надо гостя заморского, пирата пернатого!
Дед Мороз и Снегурочка переглянулись. Пират? В их тихом, заснеженном лесу? Это становилось всё интереснее...
— Пират? Заморский? — Дед Мороз недоверчиво почесал кончик носа. — Патрикеевна, ты опять свои сказки рассказываешь? Откуда в нашем лесу ананасы?
— А я говорю, пахнет! — не унималась Лиса, водя носом по воздуху. — Мой нюх меня ещё никогда не подводил! Особенно, когда дело касается чего-нибудь вкусненького. Ищите птицу диковинную, с хохолком на голове и скверным характером!
Снегурочка задумчиво посмотрела на пёрышко.
— Дедушка, а ведь Лиса может быть права. Перо и правда какое-то странное... не похоже на воронье. Оно жёсткое и с радужным отливом.
— Хм... — промычал Дед Мороз. — Ладно, проверим и эту версию. Великое Торто-Розыскное Предприятие объявляется открытым! План "Б": найти пирата!
Новость о заморском пирате, укравшем торт у самого Деда Мороза, разнеслась по лесу быстрее ветра. Звери разделились на два лагеря. Одни, во главе с практичным Бобром, утверждали, что это всё лисьи выдумки. Другие, под предводительством романтичной Белочки, уже вовсю представляли себе одноногого попугая в треуголке, кричащего "Пиастры! Пиастры!".
Сам же Дед Мороз, Снегурочка и примкнувшая к ним Лиса (в качестве эксперта-нюхача) отправились по следу. След, правда, был один — то самое перо. Они обошли весь лес, заглянули под каждый куст и в каждое дупло.
— Ну что, Патрикеевна, где твой пират с ананасами? — ворчал Дед Мороз, вытряхивая снег из бороды после очередного дупла. — Никого нет! Только совы спят да мыши шуршат.
— Терпение, Мороз Иванович, только терпение! — отвечала Лиса. — Преступник всегда оставляет следы!
И тут Снегурочка, осматривавшая старую, заброшенную избушку лесника на краю болота, тихонько ахнула.
— Дедушка, иди сюда! Смотри!
На заснеженном подоконнике избушки, рядом с замёрзшим узором, виднелась отчётливая цепочка крошечных следов. А рядом с ними... лежала крошка морковного бисквита и одна-единственная цукатная вишенка, которой был украшен торт!
— Улика! — в один голос воскликнули Дед Мороз и Лиса.
— Он здесь! Он прячется внутри! — прошептала Снегурочка.
Дед Мороз решительно взялся за ручку двери. Сердца сыщиков колотились от волнения. Кто же там, за дверью? Ужасный пират? Коварный злодей? Мороз распахнул дверь...
Внутри избушки, на старом столе, сидел... маленький, взъерошенный, дрожащий от холода... котёнок. Чёрный, как сажа, с огромными зелёными глазами, полными слёз. Перед ним на столе стоял надкусанный, но почти целый именинный торт Деда Мороза.
Котёнок увидел гостей, испуганно пискнул "Мяу!", от которого задрожали стёкла, и попытался спрятаться за тортом.
Наступила оглушительная тишина. Дед Мороз, Снегурочка и Лиса стояли в дверях, разинув рты. Этого они никак не ожидали.
— Котёнок?.. — первым нарушил молчание Дед Мороз. — Но... как же... а перо? А пират?
И тут все увидели, что рядом с котёнком на столе лежит старая детская игрушка — потрёпанный резиновый попугай с одним крылом, из которого торчало точно такое же чёрное блестящее пёрышко.
Тишину в избушке нарушило громкое урчание. Оно исходило не от Деда Мороза, мечтавшего о торте, а из живота маленького чёрного котёнка. Он посмотрел на огромных гостей своими зелёными глазищами, снова пискнул и прижал уши.
— Так вот он, наш заморский пират! — первым опомнился Дед Мороз, и в голосе его вместо гнева прозвучало удивление. — Ну, разбойник, объясняй, как дошёл до жизни такой?
Котёнок задрожал ещё сильнее.
Снегурочка мягко шагнула вперёд и села на корточки перед столом.
— Не бойся, малыш. Мы тебя не обидим. Расскажи, как ты здесь очутился? И зачем тебе понадобился торт?
Котёнок шмыгнул носом и, заикаясь от холода и страха, начал свой рассказ.
— Я... я не здешний. Я из города приехал... В коробке... Меня выбросили. Я шёл-шёл, замёрз, есть хотел... Увидел ваш большой дом, там так вкусно пахло... Я только посмотреть хотел! А потом свет погас, я испугался, схватил то, что ближе всего стояло, и убежал. А игрушка-попугай... это всё, что у меня осталось от прежней жизни...
Он ткнулся мордочкой в резинового попугая, и по его чёрной шёрстке покатилась слезинка. Лиса Патрикеевна, известная на весь лес циничная особа, вдруг громко всхлипнула и вытерла глаз кончиком пушистого хвоста.
— Ах ты, сиротинушка! — запричитала она. — А мы-то на него думали — пират, злодей!
Дед Мороз снял свою огромную рукавицу и осторожно, одним пальцем, погладил котёнка по голове. Тот вздрогнул, но потом зажмурился и впервые в жизни тихонько замурчал.
— Ну что ж, — вздохнул Дед Мороз. — Дело ясное. Преступление совершено по причине голодного отчаяния. А это, как говорится, смягчающее обстоятельство. Но торт придётся конфисковать!
Он подмигнул Снегурочке, взял торт и направился к выходу.
— А ты, — он обернулся к котёнку, — собирайся. Пойдёшь к нам жить. Будешь главным хранителем моих сказок и первым дегустатором сметаны. Назначаю тебя на должность Кота-Учёного! Согласен?
Глаза котёнка стали размером с два блюдца. Он, еще не веря, что его заберут с собой, кивнул.
— Вот и славно! — улыбнулся Мороз. — А имя тебе будет... Уголёк! За цвет твоей шубки.
Так в ледяном тереме Деда Мороза появился новый житель. День рождения, начавшийся с пропажи, закончился большим праздником. Торт, конечно, был слегка надкусан, но от
этого стал только вкуснее. Все лесные жители, узнав историю Уголька, несли ему подарки: мышку от ёжика, клубок ниток от белочки и даже почётную грамоту "Самому дерзкому, но обаятельному воришке года" от Лисы Патрикеевны.
А Дед Мороз с тех пор понял, что лучший подарок на день рождения — это не торт и не сюрпризы, а новый друг. Особенно такой маленький, тёплый и мурчащий.
— Ну что за напасть! — проворчал он так, что с потолка посыпался иней. — Каждый год одно и то же. Подарки детям, ёлки, хороводы... А про мой день рождения кто вспомнит? Никто!
В этот момент дверь со скрипом отворилась, и в тронный зал вкатилась Зайчиха с огромным подносом. На подносе возвышался торт. Да не простой, а трёхъярусный, из морковного бисквита, с кремом из взбитых облаков и украшенный ледяными розами.
— Дедушка Мороз! — пискнула Зайчиха. — Мы тут с лесными жителями... это... сюрприз приготовили! С днём рождения!
Дед Мороз аж подпрыгнул от неожиданности. Борода его распушилась, а глаза засияли, как две полярные звезды.
— Торт? Мне? Вот это да! Спасибо, ушастая! Ну, уважила старика!
Он уже было потянулся за самой большой розой, как вдруг в тереме погас свет. Раздался какой-то грохот, свист, хлопок и чей-то ехидный смешок. Когда через мгновение свет снова зажёгся, все ахнули. Поднос был на месте. Зайчиха была на месте. А вот торта... торта не было! Только несколько крошек сиротливо лежали на серебряной глади.
— Ограбление! — крикнул Дед Мороз, вскакивая с трона. — Среди бела дня! Мой праздничный торт! Кто посмел?!
Снегурочка, прибежавшая на шум, всплеснула руками.
— Дедушка, успокойся! Кто это мог быть?
— Не знаю! — громыхнул Мороз, и по стенам пошли трещины. — Но я его найду! Клянусь своей бородой, найду! Это дело чести! Кто бы ни был этот негодяй, он ответит за испорченный праздник!
Он схватил свой посох, нахлобучил шапку и решительно направился к выходу. Снегурочка и перепуганная Зайчиха едва за ним поспевали.
— Но куда мы пойдём, дедушка? — спросила внучка. — У нас нет ни одной улики!
— Как это нет? — Дед Мороз указал посохом на пол. — А это что?
На белоснежном полу, рядом с подносом, лежало маленькое, чёрное, блестящее пёрышко.
Дед Мороз поднял пёрышко двумя пальцами и поднёс к глазам.
— Так-так-так... Чёрное. Блестящее. Не иначе как воронье! Ну, держись, пернатая воровка! Я тебе покажу, как у Деда Мороза торты воровать!
— Постой, дедушка! — остановила его Снегурочка. — В нашем лесу ворон — видимо-невидимо. Как ты найдёшь ту самую?
— Элементарно, внученька! — подмигнул Мороз. — Устроим допрос с пристрастием! Зайчиха, живо собери всех ворон на главной поляне! Скажи, Дед Мороз будет мандарины раздавать!
Зайчиха, всё ещё дрожа, кивнула и ускакала выполнять поручение. Через полчаса на поляне творилось нечто невообразимое. Сотни ворон слетелись на зов, каркая, толкаясь и требуя обещанных мандаринов.
Дед Мороз взобрался на пенёк, откашлялся и грозно стукнул посохом.
— Тишина в лесу! У меня к вам дело государственной важности! Кто-то из вас, бессовестных, похитил мой именинный торт!
Вороны возмущённо закаркали.
— Клевета! Мы — птицы честные!
— А где мандарины?
— Мы морковный бисквит не жалуем! Нам бы сыра кусочек!
Дед Мороз нахмурил брови.
— А ну, признавайтесь! Кто сегодня пёрышко потерял? Вот такое! — и он продемонстрировал улику.
Все вороны тут же принялись осматривать себя, своих соседей, хлопать крыльями. Шум стоял такой, что с ёлок посыпались шишки.
— Не я!
— И не я!
— У меня все на месте!
— А у Варвары, глядите, проплешина на хвосте!
Все взгляды тут же обратились на старую, облезлую ворону Варвару, которая сидела на самой верхушке сосны и делала вид, что чистит клюв.
— Ага! — грозно сказал Дед Мороз, указывая на неё посохом. — Попалась, голубушка! А ну, спускайся! Где мой торт?
Ворона Варвара медленно слетела вниз, шаркая лапами по снегу.
— Я, Дедушка Мороз, ничего не брала! А пёрышко... так это... линька у меня сезонная! Возрастное! Вот, справка от дятла-терапевта имеется!
И она действительно протянула ему какой-то погрызенный листочек. Дед Мороз растерялся. План "А" с треском провалился. Вороны, поняв, что мандаринов не будет, с обиженным карканьем стали разлетаться.
— Что же делать, дедушка? — вздохнула Снегурочка. — Похоже, это не ворона.
— Хм... — задумался Мороз, поглаживая бороду. — Если это не ворона... тогда кто? Перо чёрное... Может, это... филин? Но он же днём спит!
Вдруг из-за сугроба высунулась хитрая лисья морда. Это была Лиса Патрикеевна, местная сплетница и модница.
— Слыхала я вашу беду, Мороз Иванович, — пропела она медовым голосом. — И есть у меня одна мыслишка. Пёрышко-то не простое, а заграничное!
— Это ещё почему? — удивился Дед Мороз.
— А потому что оно пахнет! — заявила Лиса, принюхиваясь. — Пахнет... ананасами и далёкими морями! Таких птиц в нашем лесу отродясь не бывало! Искать надо гостя заморского, пирата пернатого!
Дед Мороз и Снегурочка переглянулись. Пират? В их тихом, заснеженном лесу? Это становилось всё интереснее...
— Пират? Заморский? — Дед Мороз недоверчиво почесал кончик носа. — Патрикеевна, ты опять свои сказки рассказываешь? Откуда в нашем лесу ананасы?
— А я говорю, пахнет! — не унималась Лиса, водя носом по воздуху. — Мой нюх меня ещё никогда не подводил! Особенно, когда дело касается чего-нибудь вкусненького. Ищите птицу диковинную, с хохолком на голове и скверным характером!
Снегурочка задумчиво посмотрела на пёрышко.
— Дедушка, а ведь Лиса может быть права. Перо и правда какое-то странное... не похоже на воронье. Оно жёсткое и с радужным отливом.
— Хм... — промычал Дед Мороз. — Ладно, проверим и эту версию. Великое Торто-Розыскное Предприятие объявляется открытым! План "Б": найти пирата!
Новость о заморском пирате, укравшем торт у самого Деда Мороза, разнеслась по лесу быстрее ветра. Звери разделились на два лагеря. Одни, во главе с практичным Бобром, утверждали, что это всё лисьи выдумки. Другие, под предводительством романтичной Белочки, уже вовсю представляли себе одноногого попугая в треуголке, кричащего "Пиастры! Пиастры!".
Сам же Дед Мороз, Снегурочка и примкнувшая к ним Лиса (в качестве эксперта-нюхача) отправились по следу. След, правда, был один — то самое перо. Они обошли весь лес, заглянули под каждый куст и в каждое дупло.
— Ну что, Патрикеевна, где твой пират с ананасами? — ворчал Дед Мороз, вытряхивая снег из бороды после очередного дупла. — Никого нет! Только совы спят да мыши шуршат.
— Терпение, Мороз Иванович, только терпение! — отвечала Лиса. — Преступник всегда оставляет следы!
И тут Снегурочка, осматривавшая старую, заброшенную избушку лесника на краю болота, тихонько ахнула.
— Дедушка, иди сюда! Смотри!
На заснеженном подоконнике избушки, рядом с замёрзшим узором, виднелась отчётливая цепочка крошечных следов. А рядом с ними... лежала крошка морковного бисквита и одна-единственная цукатная вишенка, которой был украшен торт!
— Улика! — в один голос воскликнули Дед Мороз и Лиса.
— Он здесь! Он прячется внутри! — прошептала Снегурочка.
Дед Мороз решительно взялся за ручку двери. Сердца сыщиков колотились от волнения. Кто же там, за дверью? Ужасный пират? Коварный злодей? Мороз распахнул дверь...
Внутри избушки, на старом столе, сидел... маленький, взъерошенный, дрожащий от холода... котёнок. Чёрный, как сажа, с огромными зелёными глазами, полными слёз. Перед ним на столе стоял надкусанный, но почти целый именинный торт Деда Мороза.
Котёнок увидел гостей, испуганно пискнул "Мяу!", от которого задрожали стёкла, и попытался спрятаться за тортом.
Наступила оглушительная тишина. Дед Мороз, Снегурочка и Лиса стояли в дверях, разинув рты. Этого они никак не ожидали.
— Котёнок?.. — первым нарушил молчание Дед Мороз. — Но... как же... а перо? А пират?
И тут все увидели, что рядом с котёнком на столе лежит старая детская игрушка — потрёпанный резиновый попугай с одним крылом, из которого торчало точно такое же чёрное блестящее пёрышко.
Тишину в избушке нарушило громкое урчание. Оно исходило не от Деда Мороза, мечтавшего о торте, а из живота маленького чёрного котёнка. Он посмотрел на огромных гостей своими зелёными глазищами, снова пискнул и прижал уши.
— Так вот он, наш заморский пират! — первым опомнился Дед Мороз, и в голосе его вместо гнева прозвучало удивление. — Ну, разбойник, объясняй, как дошёл до жизни такой?
Котёнок задрожал ещё сильнее.
Снегурочка мягко шагнула вперёд и села на корточки перед столом.
— Не бойся, малыш. Мы тебя не обидим. Расскажи, как ты здесь очутился? И зачем тебе понадобился торт?
Котёнок шмыгнул носом и, заикаясь от холода и страха, начал свой рассказ.
— Я... я не здешний. Я из города приехал... В коробке... Меня выбросили. Я шёл-шёл, замёрз, есть хотел... Увидел ваш большой дом, там так вкусно пахло... Я только посмотреть хотел! А потом свет погас, я испугался, схватил то, что ближе всего стояло, и убежал. А игрушка-попугай... это всё, что у меня осталось от прежней жизни...
Он ткнулся мордочкой в резинового попугая, и по его чёрной шёрстке покатилась слезинка. Лиса Патрикеевна, известная на весь лес циничная особа, вдруг громко всхлипнула и вытерла глаз кончиком пушистого хвоста.
— Ах ты, сиротинушка! — запричитала она. — А мы-то на него думали — пират, злодей!
Дед Мороз снял свою огромную рукавицу и осторожно, одним пальцем, погладил котёнка по голове. Тот вздрогнул, но потом зажмурился и впервые в жизни тихонько замурчал.
— Ну что ж, — вздохнул Дед Мороз. — Дело ясное. Преступление совершено по причине голодного отчаяния. А это, как говорится, смягчающее обстоятельство. Но торт придётся конфисковать!
Он подмигнул Снегурочке, взял торт и направился к выходу.
— А ты, — он обернулся к котёнку, — собирайся. Пойдёшь к нам жить. Будешь главным хранителем моих сказок и первым дегустатором сметаны. Назначаю тебя на должность Кота-Учёного! Согласен?
Глаза котёнка стали размером с два блюдца. Он, еще не веря, что его заберут с собой, кивнул.
— Вот и славно! — улыбнулся Мороз. — А имя тебе будет... Уголёк! За цвет твоей шубки.
Так в ледяном тереме Деда Мороза появился новый житель. День рождения, начавшийся с пропажи, закончился большим праздником. Торт, конечно, был слегка надкусан, но от
этого стал только вкуснее. Все лесные жители, узнав историю Уголька, несли ему подарки: мышку от ёжика, клубок ниток от белочки и даже почётную грамоту "Самому дерзкому, но обаятельному воришке года" от Лисы Патрикеевны.
А Дед Мороз с тех пор понял, что лучший подарок на день рождения — это не торт и не сюрпризы, а новый друг. Особенно такой маленький, тёплый и мурчащий.
16.11.2025 18:45
Сказ о казаке Степане и Змее-Горыныче оренбургском
В славном граде Оренбурге, где степь до неба простирается, а Урал-река свои седые волны катит, жил да был казак Степан. Казак был видный: чуб чёрный, из-под папахи так и вьётся, усы — любо-дорого глядеть, в сажень шириной, хоть девок на них катай. Конь под ним — огонь, звали Булатом, шашка — молния, сама в пляс просится. Одно плохо: заскучал Степан. Врагов поблизости не видать, турки далеко, басурмане притихли. Сидит Степан на завалинке, семечки лузгает, на солнышко щурится.
— Эх, Булат, жисть-то какая пошла? — говорит он коню верному. — Ни тебе набега, ни тебе погони. Усы скоро от безделья обвиснут. Хоть бы чудо какое случилось, аль злыдень какой объявился, душу отвести!
Конь Булат только фыркнул, мол, хозяин, не гневи судьбу. А Степан всё не унимается.
— Вот бы, к примеру, Змей Горыныч завёлся в наших краях! Я б ему живо все три головы-то поотшибал! Одна налево, другая направо, а третья — аккурат в Урал-реку, раков смешить!
Только он это сказал, как земля загудела, небо потемнело, и налетел ветер такой, что папаха с головы слетела. Глядь, а над степью летит что-то огромное, трёхголовое, огнём пышет. Приземлилось чудище за околицей, и рёв такой пошёл, что в избах стены задрожали.
Выбежал народ, глядит — и впрямь Змей Горыныч, только какой-то... оренбургский. Одна голова в пуховом платке, другая в папахе казачьей, а третья арбузом закусывает, аж сок по чешуе течёт.
— Ну, казак, — молвила первая голова, что в платке, голосом сварливой тётки, — допросился? Явился я, Змей Горыныч, собственной персоной! Подавай мне дань: бочку кумыса, мешок семечек и самую красивую девицу в жёны!
Степан аж семечку выронил. Почесал в затылке.
— Вот те на... Я ж пошутил...
Народ в панику, атаман за голову схватился, а Степан, оправившись от первого изумления, усы подкрутил и вперёд вышел.
— Эй, пернатый! — крикнул он змею. — Ты это, с данью-то погоди. С девицей — вопрос особый, у нас с этим строго, сначала свататься надо. А насчёт кумыса... Ты какой предпочитаешь? Кобылий или, может, верблюжий? У нас можно и тот, и другой сразу отведать.
Змей аж арбуз жевать перестал. Вторая голова, что в папахе, басом прогудела:
— Ты мне зубы не заговаривай, казак! Я змей серьёзный, с традициями! Сказано — дань, значит дань!
— А я что? Я ж не против, — развёл руками Степан. — Только давай по-нашему, по-казачьи. Силой брать — невелико геройство. А вот давай-ка мы с тобой в доблести посостязаемся. Ежели ты победишь — твоя взяла. А ежели я — улетишь восвояси и степь нашу забудешь.
Третья голова, дожевав арбуз, икнула и с любопытством спросила:
— А состязаться-то в чём будем? В поедании арбузов на скорость?
— Ишь, гурман, — усмехнулся Степан. — Нет. Первое испытание — на смекалку. Загадаю тебе загадку. Не отгадаешь — одна голова долой! Второе — на силушку. Кто дальше камень бросит. А третье... третье — на выносливость. Так сказать, турнир: "Кто кого перепьёт!" А пить будем с тобой кумыс, самый ядреный, что есть в наших погребах.
Змей посовещался сам с собой. Головы пошептались, поспорили. Та, что в платке, говорила, что это всё обман. Та, что в папахе, кричала, что казачья честь дороже. А третья просто хотела ещё арбуза. Наконец, голова в папахе оглушительно воскликнула:
— Быть по-твоему, казак! Согласны мы! Загадывай свою загадку!
Степан хитро прищурился, погладил ус и молвил:
— Слушай, Горыныч, мою загадку. Не паук, а сети плетёт. Не коза, а тепло даёт. Греет и тело, и душу. Что это?
Змей задумался. Три головы наморщили чешуйчатые лбы. Первая, что в платке, прошипела:
— Может, это солнце? Оно греет, а лучи — как сети...
— Неверно! — отрезал Степан. — Солнце душу, конечно, греет, но сетей не плетёт.
Вторая голова, басовитая, предположила:
— А может, это печка? В ней огонь, как паук, а тепло от неё идёт!
— Опять мимо! — рассмеялся казак. — Печка сетей не плетёт, хоть и греет знатно.
Третья голова, облизываясь, прочавкала:
— Я знаю! Это... это паутина, в которую попала коза, а рядом горит костёр! Очень тепло и питательно!
Степан аж за живот схватился от смеха.
— Ну ты, обжора, и выдумал! Нет, Горыныч, не угадал ты. Ответ-то простой, оренбургский. Это ж пуховый платок! Его из козьего пуха вяжут, как паутину, а греет он лучше любой печки!
Змей растерялся. Как же он, с головой в платке, не догадался! А уговор есть уговор. Степан выхватил свою шашку-молнию.
— Ну что, которая голова самая бестолковая? — спросил он ласково. — Пожалуй, начнём с той, что про козу в паутине думает!
Третья голова взвизгнула, и Змей взмолился:
— Погоди, казак! Не руби! Я эту голову перевоспитаю! Давай второе испытание! Уж в силушке-то я тебя одолею!
Пошли они в степь, нашли валун огромный, что и вдесятером не сдвинуть. Змей Горыныч ухмыльнулся, обхватил камень всеми тремя шеями, напрягся, крякнул так, что суслики в норы попрятались, и швырнул его. Летел камень, летел, да и упал за холмом, только пыль столбом.
— Ну, казак, твоя очередь! — гордо проревели все три головы.
Степан и усом не повёл. Подошёл к арбузной бахче, где змей пировал, выбрал самый большой и спелый арбуз, килограмм на двадцать.
— Ты что это удумал? — удивился Змей. — Это ж не камень!
— А кто сказал, что надо именно камень кидать? Сказано — кто дальше бросит. А что бросать — не уточняли, — подмигнул Степан. Он размахнулся и запустил арбуз высоко в небо. Арбуз летел, сверкая зелёными боками, и скрылся из виду.
Ждут они, ждут. А арбуза всё нет. Змей уже нервничать начал.
— Да где ж он? Куда ты его закинул?
Тут прискакал с другого берега реки запыхавшийся гонец.
— Беда, атаман! С неба на ханский шатёр арбуз упал! Хан решил, что это Оренбург войну объявляет, войско собирает!
Степан хлопнул себя по бедру.
— Вот видите, ваше змейшество! Мой-то подарочек аж до самого хана долетел! А твой камень где? За холмом валяется. Стало быть, и в этом состязании моя взяла!
Змей от обиды аж задымился. Вторая голова, что в папахе, совсем сникла. Но делать нечего — проиграл. Осталось последнее испытание.
Часть 5. Последнее испытание и мирный исход
— Ну, Горыныч, осталось последнее испытание, — сказал Степан, ведя змея к погребу. — Кто кого перепьёт. Вот тебе бочка кумыса, а мне — та, что поменьше.
Змей обрадовался. Уж в питье ему равных не было. Три глотки — три ведра! Припали они к бочкам. Змей пьёт — в погребе аж ветер гуляет. Степан тоже делает вид, что пьёт, а сам через дырочку в дне всё на землю выливает. Змей свою бочку осушил, вторую потребовал. Степан и вторую ему подкатил. После третьей бочки змеиные головы поникли, глаза осоловели, и послышался храп на всю станицу.
Тут Степан его и разбудил.
— Эй, просыпайся, лежебока! Я уже и свою бочку, и твои три выпил, и ещё готов! Проиграл ты!
Змей открыл мутные глаза, икнул и понял, что казака ему не одолеть. Ни силой, ни хитростью.
— Ох, казак... Твоя правда, — простонал он. — Победил ты. Делать нечего, полечу я отсюда.
— А куда ж ты полетишь? — спросил Степан. — Везде народ ушлый, везде казаки живут. Тебя враз на шашлык пустят.
— И то верно... Что ж мне делать?
— А ты оставайся, — предложил Степан. Будешь у нас вместо ветряной мельницы работать — крыльями махать. А мы тебя за это арбузами и кумысом потчевать будем. И платок тебе новый свяжем, старый-то твой уже, совсем молью поеденный... Куда это годится?
Змей подумал-подумал, да и согласился. Так и остался он в Оренбурге. Днём зерно молоть помогал, а вечерами сидел со Степаном на завалинке, лузгал семечки и слушал казачьи байки. И больше Степан никогда не скучал, потому что иметь в друзьях собственного ручного змея — это, знаете ли...
— Эх, Булат, жисть-то какая пошла? — говорит он коню верному. — Ни тебе набега, ни тебе погони. Усы скоро от безделья обвиснут. Хоть бы чудо какое случилось, аль злыдень какой объявился, душу отвести!
Конь Булат только фыркнул, мол, хозяин, не гневи судьбу. А Степан всё не унимается.
— Вот бы, к примеру, Змей Горыныч завёлся в наших краях! Я б ему живо все три головы-то поотшибал! Одна налево, другая направо, а третья — аккурат в Урал-реку, раков смешить!
Только он это сказал, как земля загудела, небо потемнело, и налетел ветер такой, что папаха с головы слетела. Глядь, а над степью летит что-то огромное, трёхголовое, огнём пышет. Приземлилось чудище за околицей, и рёв такой пошёл, что в избах стены задрожали.
Выбежал народ, глядит — и впрямь Змей Горыныч, только какой-то... оренбургский. Одна голова в пуховом платке, другая в папахе казачьей, а третья арбузом закусывает, аж сок по чешуе течёт.
— Ну, казак, — молвила первая голова, что в платке, голосом сварливой тётки, — допросился? Явился я, Змей Горыныч, собственной персоной! Подавай мне дань: бочку кумыса, мешок семечек и самую красивую девицу в жёны!
Степан аж семечку выронил. Почесал в затылке.
— Вот те на... Я ж пошутил...
Народ в панику, атаман за голову схватился, а Степан, оправившись от первого изумления, усы подкрутил и вперёд вышел.
— Эй, пернатый! — крикнул он змею. — Ты это, с данью-то погоди. С девицей — вопрос особый, у нас с этим строго, сначала свататься надо. А насчёт кумыса... Ты какой предпочитаешь? Кобылий или, может, верблюжий? У нас можно и тот, и другой сразу отведать.
Змей аж арбуз жевать перестал. Вторая голова, что в папахе, басом прогудела:
— Ты мне зубы не заговаривай, казак! Я змей серьёзный, с традициями! Сказано — дань, значит дань!
— А я что? Я ж не против, — развёл руками Степан. — Только давай по-нашему, по-казачьи. Силой брать — невелико геройство. А вот давай-ка мы с тобой в доблести посостязаемся. Ежели ты победишь — твоя взяла. А ежели я — улетишь восвояси и степь нашу забудешь.
Третья голова, дожевав арбуз, икнула и с любопытством спросила:
— А состязаться-то в чём будем? В поедании арбузов на скорость?
— Ишь, гурман, — усмехнулся Степан. — Нет. Первое испытание — на смекалку. Загадаю тебе загадку. Не отгадаешь — одна голова долой! Второе — на силушку. Кто дальше камень бросит. А третье... третье — на выносливость. Так сказать, турнир: "Кто кого перепьёт!" А пить будем с тобой кумыс, самый ядреный, что есть в наших погребах.
Змей посовещался сам с собой. Головы пошептались, поспорили. Та, что в платке, говорила, что это всё обман. Та, что в папахе, кричала, что казачья честь дороже. А третья просто хотела ещё арбуза. Наконец, голова в папахе оглушительно воскликнула:
— Быть по-твоему, казак! Согласны мы! Загадывай свою загадку!
Степан хитро прищурился, погладил ус и молвил:
— Слушай, Горыныч, мою загадку. Не паук, а сети плетёт. Не коза, а тепло даёт. Греет и тело, и душу. Что это?
Змей задумался. Три головы наморщили чешуйчатые лбы. Первая, что в платке, прошипела:
— Может, это солнце? Оно греет, а лучи — как сети...
— Неверно! — отрезал Степан. — Солнце душу, конечно, греет, но сетей не плетёт.
Вторая голова, басовитая, предположила:
— А может, это печка? В ней огонь, как паук, а тепло от неё идёт!
— Опять мимо! — рассмеялся казак. — Печка сетей не плетёт, хоть и греет знатно.
Третья голова, облизываясь, прочавкала:
— Я знаю! Это... это паутина, в которую попала коза, а рядом горит костёр! Очень тепло и питательно!
Степан аж за живот схватился от смеха.
— Ну ты, обжора, и выдумал! Нет, Горыныч, не угадал ты. Ответ-то простой, оренбургский. Это ж пуховый платок! Его из козьего пуха вяжут, как паутину, а греет он лучше любой печки!
Змей растерялся. Как же он, с головой в платке, не догадался! А уговор есть уговор. Степан выхватил свою шашку-молнию.
— Ну что, которая голова самая бестолковая? — спросил он ласково. — Пожалуй, начнём с той, что про козу в паутине думает!
Третья голова взвизгнула, и Змей взмолился:
— Погоди, казак! Не руби! Я эту голову перевоспитаю! Давай второе испытание! Уж в силушке-то я тебя одолею!
Пошли они в степь, нашли валун огромный, что и вдесятером не сдвинуть. Змей Горыныч ухмыльнулся, обхватил камень всеми тремя шеями, напрягся, крякнул так, что суслики в норы попрятались, и швырнул его. Летел камень, летел, да и упал за холмом, только пыль столбом.
— Ну, казак, твоя очередь! — гордо проревели все три головы.
Степан и усом не повёл. Подошёл к арбузной бахче, где змей пировал, выбрал самый большой и спелый арбуз, килограмм на двадцать.
— Ты что это удумал? — удивился Змей. — Это ж не камень!
— А кто сказал, что надо именно камень кидать? Сказано — кто дальше бросит. А что бросать — не уточняли, — подмигнул Степан. Он размахнулся и запустил арбуз высоко в небо. Арбуз летел, сверкая зелёными боками, и скрылся из виду.
Ждут они, ждут. А арбуза всё нет. Змей уже нервничать начал.
— Да где ж он? Куда ты его закинул?
Тут прискакал с другого берега реки запыхавшийся гонец.
— Беда, атаман! С неба на ханский шатёр арбуз упал! Хан решил, что это Оренбург войну объявляет, войско собирает!
Степан хлопнул себя по бедру.
— Вот видите, ваше змейшество! Мой-то подарочек аж до самого хана долетел! А твой камень где? За холмом валяется. Стало быть, и в этом состязании моя взяла!
Змей от обиды аж задымился. Вторая голова, что в папахе, совсем сникла. Но делать нечего — проиграл. Осталось последнее испытание.
Часть 5. Последнее испытание и мирный исход
— Ну, Горыныч, осталось последнее испытание, — сказал Степан, ведя змея к погребу. — Кто кого перепьёт. Вот тебе бочка кумыса, а мне — та, что поменьше.
Змей обрадовался. Уж в питье ему равных не было. Три глотки — три ведра! Припали они к бочкам. Змей пьёт — в погребе аж ветер гуляет. Степан тоже делает вид, что пьёт, а сам через дырочку в дне всё на землю выливает. Змей свою бочку осушил, вторую потребовал. Степан и вторую ему подкатил. После третьей бочки змеиные головы поникли, глаза осоловели, и послышался храп на всю станицу.
Тут Степан его и разбудил.
— Эй, просыпайся, лежебока! Я уже и свою бочку, и твои три выпил, и ещё готов! Проиграл ты!
Змей открыл мутные глаза, икнул и понял, что казака ему не одолеть. Ни силой, ни хитростью.
— Ох, казак... Твоя правда, — простонал он. — Победил ты. Делать нечего, полечу я отсюда.
— А куда ж ты полетишь? — спросил Степан. — Везде народ ушлый, везде казаки живут. Тебя враз на шашлык пустят.
— И то верно... Что ж мне делать?
— А ты оставайся, — предложил Степан. Будешь у нас вместо ветряной мельницы работать — крыльями махать. А мы тебя за это арбузами и кумысом потчевать будем. И платок тебе новый свяжем, старый-то твой уже, совсем молью поеденный... Куда это годится?
Змей подумал-подумал, да и согласился. Так и остался он в Оренбурге. Днём зерно молоть помогал, а вечерами сидел со Степаном на завалинке, лузгал семечки и слушал казачьи байки. И больше Степан никогда не скучал, потому что иметь в друзьях собственного ручного змея — это, знаете ли...
07.11.2025 11:18
Небылицы станицы. Самовар-оракул
Не прошло и недели с тех пор, как коза Марфа вернулась в родное стойло, а в станице снова случилось чрезвычайное происшествие. На сей раз эпицентром событий стал дом урядника Афанасия.
Афанасий, как вы помните, был мужчиной серьёзным, но после истории с козой его авторитет слегка пошатнулся. Дабы вернуть себе былое величие, он выписал из города диковинку — самовар. Да не простой, а блестящий, пузатый, с витыми ручками и краником в виде резного петушиного гребешка. Поставил он его на самое видное место в горнице и каждый вечер собирал соседей на чай, дабы те дивились чуду техники и проникались уважением к его хозяину.
И вот, в один из таких вечеров, когда в доме собрались все главные лица станицы — дед Архип, бабка Фёкла и даже лесник Кузьма, зашедший за солью, — случилось страшное! Афанасий, разливая кипяток, по своему обыкновению завёл поучительную речь:
— Вот, глядите, соседи, как наука вперёд шагнула! Не то что ваши эти лучины да печки. Налил воды, кинул шишек — и вот тебе благодать, пар идёт, петушок поёт, ароматный дух плывёт...
И в этот самый момент самовар, доселе мирно пыхтевший, вдруг издал совершенно отчётливый, скрипучий, как несмазанная телега, голос:
— Не поёт, а кхе-кхе... страдает!
В горнице повисла мёртвая тишина. Все уставились на самовар. Афанасий застыл с чайником в руке. Первой опомнилась Фёкла.
— Кто это сказал? — прошептала она, крестясь.
— Шишками... подавился, — снова донеслось из медного нутра самовара.
Тут уж сомнений не осталось. Говорил самовар. То, что началось дальше, трудно описать словами. Бабка Фёкла взвизгнула и полезла под лавку, бормоча молитвы. Дед Архип выронил баранку и стал пятиться к двери, нащупывая на поясе несуществующую шашку. Лесник Кузьма, человек суровый, лишь крякнул и покрепче сжал в кулаке мешочек с солью — известное средство от нечисти.
Один лишь урядник Афанасий, бледный, как полотно, пытался сохранить лицо.
— Это... это акустический эффект! — дрожащим голосом заявил он. — Пар выходит, в трубе резонирует... физика!
— Какая ещё физика?! — донеслось из самовара. — Ты мне в нутро сапог грязный кинул вместо щепок! Думаешь, мне приятно?!
Все посмотрели на Афанасия. Тот покраснел до кончиков ушей. Действительно, вечером, впопыхах, он по ошибке сунул в топку старый, растрескавшийся детский сапожок, валявшийся у печки.
— Так вот, в чём дело! — просиял дед Архип, вылезая из-за двери. — В нём душа сидит! Душа того, кто сапожок носил! Бесприютная!
— Да не душа я! — обиженно проскрипел самовар. — Я домовой ваш, Фролушка! Меня в этом сапоге старые хозяева из избы вынесли, а этот, с усами, — самовар кивнул краником на урядника, — в огонь упечь хотел! Вот я в него и вселился! Временно! Тут хоть тепло и вид на вас на всех хороший. Сидите тут, чай пьёте, а у меня в подполе мыши пешком ходят!
Новость о том, что в доме урядника завёлся говорящий домовой, да ещё и поселился в самоваре, облетела станицу быстрее, чем дым из банной трубы. К вечеру следующего дня у дома Афанасия собралась толпа, жаждущая узреть чудо. Афанасий, скрепя сердце, превратил свою горницу в некое подобие приёмной.
Домовой Фролушка, освоившись в своей новой медной резиденции, оказался существом на редкость общительным и вредным. Он комментировал всё, что происходило в доме. Когда жена Афанасия, Марья, мела пол, самовар скрипел: «Не туда метёшь, под лавкой паутина с кулак!». Когда сам урядник пытался читать газету, Фролушка бубнил: «Опять врёте, в газетах ваших! У нас в подполе новости и то правдивее будут!».
Но настоящий переполох начался, когда к домовому потянулись ходоки. Первой пришла бабка Фёкла.
— Фролушка, миленький! — заворковала она, ставя рядом с самоваром блюдечко с молоком. — Подскажи, куда я очки свои запропастила? Третий день, как слепая курица, хожу!
Самовар попыхтел, подумал и выдал:
— А ты, старая, в квашне с тестом посмотри. Ты ж вчера пироги пекла, да туда их и уронила. Теперь у тебя будут пироги с диоптриями.
Фёкла ахнула и побежала домой. Через пять минут она вернулась с очками, перепачканными в тесте, и низко поклонилась самовару. Авторитет Фрола взлетел до самых облаков. К нему потянулись и другие: кто спрашивал про потерянную овцу, кто про неверного мужа, а кто и просто — какая завтра будет погода.
Фролушка стал местным оракулом. Афанасий же из грозного урядника превратился в секретаря при самоваре. Он записывал часы приёма, следил, чтобы в самовар вовремя подливали водички для «поддержания пара», и отгонял особо назойливых просителей.
Но однажды утром случилось непоправимое. В станицу приехал из города племянник деда Архипа, студент-технарь по имени Петя. Услышав про говорящий самовар, он лишь хмыкнул.
— Ерунда это всё и суеверия! — заявил он. — Нет никаких домовых. Это, скорее всего, акустический резонанс, вызванный уникальной формой топки и скоплением сажи. Сейчас мы его научным методом почистим!
И, не слушая воплей Афанасия и Архипа, этот деятель науки схватил ершик для чистки труб, засунул его в самовар и несколько раз хорошенько там всё проскрёб. Из самовара вылетело облако сажи с кашлем и тот самый злополучный детский сапожок.
— Вот и вся ваша мистика! — гордо заявил Петя, отряхивая руки.
Афанасий забросал в самовар свежих шишек, раздул огонь, налил воды... Самовар запыхтел, зашипел, но... молчал. Он молчал мёртвым, медным молчанием. Голос пропал.
Вместе с голосом домового Фрола из станицы ушла вся магия. Бабка Фёкла снова потеряла очки, у кого-то опять пропала курица, а погода испортилась вопреки всем прогнозам. Афанасий сидел у своего молчаливого, идеально чистого, но совершенно бесполезного самовара и горько вздыхал. Наука победила, но от этой победы всем почему-то стало очень тоскливо.
Афанасий, как вы помните, был мужчиной серьёзным, но после истории с козой его авторитет слегка пошатнулся. Дабы вернуть себе былое величие, он выписал из города диковинку — самовар. Да не простой, а блестящий, пузатый, с витыми ручками и краником в виде резного петушиного гребешка. Поставил он его на самое видное место в горнице и каждый вечер собирал соседей на чай, дабы те дивились чуду техники и проникались уважением к его хозяину.
И вот, в один из таких вечеров, когда в доме собрались все главные лица станицы — дед Архип, бабка Фёкла и даже лесник Кузьма, зашедший за солью, — случилось страшное! Афанасий, разливая кипяток, по своему обыкновению завёл поучительную речь:
— Вот, глядите, соседи, как наука вперёд шагнула! Не то что ваши эти лучины да печки. Налил воды, кинул шишек — и вот тебе благодать, пар идёт, петушок поёт, ароматный дух плывёт...
И в этот самый момент самовар, доселе мирно пыхтевший, вдруг издал совершенно отчётливый, скрипучий, как несмазанная телега, голос:
— Не поёт, а кхе-кхе... страдает!
В горнице повисла мёртвая тишина. Все уставились на самовар. Афанасий застыл с чайником в руке. Первой опомнилась Фёкла.
— Кто это сказал? — прошептала она, крестясь.
— Шишками... подавился, — снова донеслось из медного нутра самовара.
Тут уж сомнений не осталось. Говорил самовар. То, что началось дальше, трудно описать словами. Бабка Фёкла взвизгнула и полезла под лавку, бормоча молитвы. Дед Архип выронил баранку и стал пятиться к двери, нащупывая на поясе несуществующую шашку. Лесник Кузьма, человек суровый, лишь крякнул и покрепче сжал в кулаке мешочек с солью — известное средство от нечисти.
Один лишь урядник Афанасий, бледный, как полотно, пытался сохранить лицо.
— Это... это акустический эффект! — дрожащим голосом заявил он. — Пар выходит, в трубе резонирует... физика!
— Какая ещё физика?! — донеслось из самовара. — Ты мне в нутро сапог грязный кинул вместо щепок! Думаешь, мне приятно?!
Все посмотрели на Афанасия. Тот покраснел до кончиков ушей. Действительно, вечером, впопыхах, он по ошибке сунул в топку старый, растрескавшийся детский сапожок, валявшийся у печки.
— Так вот, в чём дело! — просиял дед Архип, вылезая из-за двери. — В нём душа сидит! Душа того, кто сапожок носил! Бесприютная!
— Да не душа я! — обиженно проскрипел самовар. — Я домовой ваш, Фролушка! Меня в этом сапоге старые хозяева из избы вынесли, а этот, с усами, — самовар кивнул краником на урядника, — в огонь упечь хотел! Вот я в него и вселился! Временно! Тут хоть тепло и вид на вас на всех хороший. Сидите тут, чай пьёте, а у меня в подполе мыши пешком ходят!
Новость о том, что в доме урядника завёлся говорящий домовой, да ещё и поселился в самоваре, облетела станицу быстрее, чем дым из банной трубы. К вечеру следующего дня у дома Афанасия собралась толпа, жаждущая узреть чудо. Афанасий, скрепя сердце, превратил свою горницу в некое подобие приёмной.
Домовой Фролушка, освоившись в своей новой медной резиденции, оказался существом на редкость общительным и вредным. Он комментировал всё, что происходило в доме. Когда жена Афанасия, Марья, мела пол, самовар скрипел: «Не туда метёшь, под лавкой паутина с кулак!». Когда сам урядник пытался читать газету, Фролушка бубнил: «Опять врёте, в газетах ваших! У нас в подполе новости и то правдивее будут!».
Но настоящий переполох начался, когда к домовому потянулись ходоки. Первой пришла бабка Фёкла.
— Фролушка, миленький! — заворковала она, ставя рядом с самоваром блюдечко с молоком. — Подскажи, куда я очки свои запропастила? Третий день, как слепая курица, хожу!
Самовар попыхтел, подумал и выдал:
— А ты, старая, в квашне с тестом посмотри. Ты ж вчера пироги пекла, да туда их и уронила. Теперь у тебя будут пироги с диоптриями.
Фёкла ахнула и побежала домой. Через пять минут она вернулась с очками, перепачканными в тесте, и низко поклонилась самовару. Авторитет Фрола взлетел до самых облаков. К нему потянулись и другие: кто спрашивал про потерянную овцу, кто про неверного мужа, а кто и просто — какая завтра будет погода.
Фролушка стал местным оракулом. Афанасий же из грозного урядника превратился в секретаря при самоваре. Он записывал часы приёма, следил, чтобы в самовар вовремя подливали водички для «поддержания пара», и отгонял особо назойливых просителей.
Но однажды утром случилось непоправимое. В станицу приехал из города племянник деда Архипа, студент-технарь по имени Петя. Услышав про говорящий самовар, он лишь хмыкнул.
— Ерунда это всё и суеверия! — заявил он. — Нет никаких домовых. Это, скорее всего, акустический резонанс, вызванный уникальной формой топки и скоплением сажи. Сейчас мы его научным методом почистим!
И, не слушая воплей Афанасия и Архипа, этот деятель науки схватил ершик для чистки труб, засунул его в самовар и несколько раз хорошенько там всё проскрёб. Из самовара вылетело облако сажи с кашлем и тот самый злополучный детский сапожок.
— Вот и вся ваша мистика! — гордо заявил Петя, отряхивая руки.
Афанасий забросал в самовар свежих шишек, раздул огонь, налил воды... Самовар запыхтел, зашипел, но... молчал. Он молчал мёртвым, медным молчанием. Голос пропал.
Вместе с голосом домового Фрола из станицы ушла вся магия. Бабка Фёкла снова потеряла очки, у кого-то опять пропала курица, а погода испортилась вопреки всем прогнозам. Афанасий сидел у своего молчаливого, идеально чистого, но совершенно бесполезного самовара и горько вздыхал. Наука победила, но от этой победы всем почему-то стало очень тоскливо.
18.10.2025 15:05
Небылицы станицы. Сказ о пропавшей козе Марфе
В станице нашей, что у самой речки быстрой приютилась, случилась беда превеликая. У деда Архипа, казака старого да нрава сурового, пропала коза. Да не простая коза, а Марфа! Коза вредная, бодливая, но молоком славившаяся на всю округу. Молоко у ней было такое жирное, что ложка стояла, а характер такой, что сам чёрт бы с ней не сладил.
Проснулся Архип поутру, вышел во двор, а хлев пустой, и только верёвка перегрызенная на земле валяется. Дед в крик:
— Обокрали! Ироды! Последнюю радость стариковскую увели!
На крик сбежалась вся улица. Первой, как водится, примчалась бабка Фёкла, соседка его через плетень.
— Да кто ж на твою Марфу позарится, Архип? — молвила она, хитро щуря глаз. — Её ж даром возьмёшь — потом не оберёшься! Она мне намедни весь подол у сарафана нового изжевала!
— Молчи, ведьма старая! — притопнул ногой Архип. — Завидуешь молоку её! Это твоих рук дело! Признавайся, куда козу мою дела?
— Да чтоб мне пусто было! — закрестилась Фёкла. — Нужна мне твоя сатана рогатая! Она намедни урядника нашего так в бок приложила, что он три дня на боку спал!
Тут и сам урядник, Афанасий, подоспел. Шёл он, прихрамывая, и держался за бок, будто память была свежа.
— Что за шум, а драки нет? — грозно вопросил он.
— Козу украли! — в один голос закричали старики.
— Марфу? — уточнил Афанасий, и лицо его помрачнело. — Эту бестию? Да её не украсть, она сама кого хошь в полон возьмёт. Я как вспомню... так в боку колет.
Пока они препирались, мальчишка-пастушок, Ванятка, подбежал.
— Дед Архип! А я видел! Ночью видел!
Все обернулись к нему. Архип схватил его за плечо:
— Говори, орлёнок! Кого видел? Вора?
— Не-е-ет, — протянул Ванятка, вытирая нос рукавом. — Хуже! Я видел, как Марфа твоя на плетень запрыгнула, а потом... потом она на задние ноги встала, на небо поглядела, и её... её огненный змей унёс! Прямо в небо! Только копытца в темноте сверкнули!
На миг над станицей повисла такая тишина, что слышно было, как муха бьётся о стекло в доме урядника. Огненный змей? Унёс козу? Такого даже самые древние старики не припомнят.
Первой опомнилась бабка Фёкла. Она всплеснула руками и запричитала, обращаясь уже не к Архипу, а ко всей честной толпе:
— Я ж говорила! Я ж чуяла! Не простая это коза, не божье созданье! В ней нечистый сидел! Он-то её и уволок в преисподнюю свою!
— Какую ещё преисподнюю? — нахмурился урядник Афанасий, хотя в глазах его мелькнуло сомнение. — Ты, Фёкла, языком-то не мели! Змей, говоришь, Ванятка?
— Огненный! — с жаром подтвердил пастушок. — С хвостом, как метла, и искрами сыпал! А Марфа и не брыкалась вовсе! Будто ждала его! Залезла ему на спину, он крыльями как махнёт — и ввысь!
Тут уж и дед Архип сменил гнев на милость, а точнее — на праведный ужас. Он снял шапку, перекрестился и прошептал:
— Господи, помилуй... Так вот почему она молоко давала не простое, а приворотное! Помните, как Степан-кузнец его испил, так три дня своей жене в любви клялся, чего с ним отродясь не бывало!
— А как поп наш, отец Василий, откушал того молочка, так на колокольню полез и звонил Комаринскую, пока его не сняли! — подхватил кто-то из толпы.
Слухи и домыслы покатились по станице, как снежный ком с горы. Каждый вспоминал какую-нибудь каверзу, устроенную Марфой, и теперь всё сходилось: коза была ведьмой! Или, по крайней мере, её пособницей. Урядник Афанасий потёр ушибленный бок и задумчиво произнёс:
— Н-да... Дела... Тут простой кражей и не пахнет. Тут дело государственной важности! Покушение на устои! Надобно следствие учинить. Ванятка, а ну, веди, показывай место, откуда змей взлетал! Будем улики искать!
И вот, вся честная станица, во главе с урядником Афанасием, двинулась к хлеву деда Архипа, дабы вершить следствие по делу о козе-ведьме и огненном змее. Афанасий, для важности нацепив шашку, что уже и запамятовал, когда ее из ножен вынимал, шёл впереди, грозно озираясь.
— Так, — молвил он, подойдя к плетню, — вот место преступления! Ванятка, показывай, где улики змеиные!
Ванятка, войдя в роль главного свидетеля, ткнул пальцем в куст лопуха.
— Вот тута он стоял! И хвостом как вильнёт, так весь лопух и опалил!
Афанасий нагнулся, потрогал лист. Лист был совершенно зелёный и даже влажный от росы. Урядник кашлянул.
— Гм... Видать, змей был холодного горения. Особой породы. А ещё что?
— А ещё, — не унимался Ванятка, — он как дыхнул, так земля обуглилась!
Все уставились на землю. Земля была покрыта свежей травкой и... несколькими вполне себе обычными козьими «орешками». Бабка Фёкла, не будь дурой, тут же нашла объяснение:
— Так это не простое!.. Это уголья адские! Остыли просто! Не трожь, Афоня, а то рука отсохнет!
Афанасий благоразумно отдёрнул руку. Следствие заходило в тупик. И тут дед Архип, который до этого молча скорбел, вдруг хлопнул себя по лбу.
— Понял! Я всё понял! Это ж не змей был! Это ж цыгане!
Толпа загудела. Цыгане — это было куда понятнее огненных змеев.
— Какие цыгане, Архип? — недоверчиво спросил урядник.
— А такие! — горячился дед. — Они ж мастера по части морока! Они мальцу глаза отвели, змея ему подсунули заместо табора своего, а козу — в кибитку и поминай как звали! А знаете зачем?!
— Ну?! — выдохнула толпа.
— На бубны! — торжествующе провозгласил Архип. — У Марфы моей шкура — во! Крепкая! На самый главный шаманский бубен пойдёт! Будут они в него бить, а станичники наши икать да хворать!
От этой картины станичники пришли в такой ужас, что даже урядник побледнел. Перспектива стать частью цыганского бубна для козы Марфы, а самим икать до скончания века, была невыносима. И тут из толпы раздался тоненький голосок Семёна-коновала, мужика тихого и вечно пьяненького:
— А... а может, она... того... замуж вышла?
Все обернулись к нему, как к полоумному.
— За кого замуж, Сёма?! За змея?! — рявкнул Архип.
— Да не... — икнул Семён. — У нас же на том берегу козёл живёт, у лесника. Яшка. Зверь, а не козёл! Рога — во! Борода до колен! Может, она к нему сбежала? По любви?
Над станицей снова повисла тишина. Но на сей раз это была не тишина ужаса, а тишина напряжённой работы мысли. Версия Семёна про любовь была настолько проста и нелепа, что в неё поначалу никто не поверил. Но потом... потом бабка Фёкла вдруг хлопнула себя по бёдрам.
— А ведь и правда! — закричала она. — Я ж намедни видела, как Марфа твоя, Архип, у речки стояла! Стоит, на тот берег смотрит, и вздыхает! Да так тяжело вздыхает, что у меня аж герань на окне колыхнулась! Я-то думала, ей от обжорства дурно, а она, поди ж ты, от любви страдала!
Дед Архип побагровел. Мысль о том, что его боевая, идеологически подкованная коза могла променять его, казака, на какого-то козла с другого берега, была для него личным оскорблением.
— Да как она посмела?! — взревел он. — Без благословения! Без сватовства! Это ж позор на всю мою седую бороду! Увести козу из-под носа!
— Так её не увели, она сама ушла! — вставил своё слово Семён, осмелев. — Любовь, она, дед, зла... полюбишь и козла. Лесникова.
Урядник Афанасий, почувствовав, что дело из мистического переходит в разряд семейно-бытового, обрёл былую уверенность.
— Так! Прекратить балаган! Значит, говорите, козёл Яшка? Что за фрукт?
Тут из толпы вышел сам лесник, Кузьма, мужик угрюмый и нелюдимый.
— Фрукт что надо, — прогудел он басом. — Производитель элитный. Вчерась вечером пришёл мой Яшка домой. Весь в репьях, тиной пахнет, но довольный, как кот на печке. А с ним — невеста. Бодливая, зараза, и наглющая. Весь мой запас сушёных веников за ночь сожрала и теперь в огороде капусту доедает.
Всё стало на свои места. Не было ни змея, ни цыган. Был побег по любви. Дед Архип, осознав, что его коза не похищена, а просто сбежала к жениху, схватился за сердце.
— Ах, она, бесстыдница! Я её холил, лелеял, от волков берёг, а она!.. На какого-то бородатого променяла! Пойдём, Кузьма! Веди меня к ней! Я ей рога-то пообломаю!
И вот, вся процессия, что пять минут назад искала адские уголья, теперь двинулась через речку вброд к дому лесника — вершить семейный суд. Впереди, размахивая кулаками, шёл оскорблённый в лучших чувствах Архип. За ним, для порядка, семенил урядник Афанасий. А замыкала шествие вся станица, предвкушая зрелище, какого не видали со времён свадьбы того самого попа, что Комаринскую на колокольне отзванивал.
Когда делегация из станицы, отряхиваясь и отфыркиваясь, выбралась на берег у дома лесника, их взору предстала картина маслом. Прямо посреди огорода, где ещё вчера наливалась капуста, сидели двое. Козёл Яшка, огромный, бородатый и с видом философа, познавшего смысл бытия, лениво пережёвывал кочерыжку. А рядом с ним, прижавшись к его могучему боку, возлежала Марфа. Вид у неё был совершенно невинный, будто не она только что опозорила своего хозяина, разорила чужой огород и ввергла целую станицу в мистический ужас.
— Ах ты, паршивица! — первым нарушил идиллию дед Архип, потрясая кулаком. — А ну марш домой, блудница рогатая!
Марфа на это заявление лишь лениво повела ухом, но с места не сдвинулась. Яшка же, напротив, перестал жевать, поднял свою массивную голову и посмотрел на Архипа так, будто тот был прошлогодним листом капусты. В его взгляде читалось явное: «Чего надобно, старче?»
— Афанасий, вяжи их! — скомандовал Архип уряднику. — Он — похититель, она — соучастница!
Урядник Афанасий сглотнул. Подойти к этому зверюге, который был размером с доброго телёнка и смотрел на него с олимпийским спокойствием, было страшно. Но служба есть служба.
— Именем закона... — начал он, делая робкий шаг вперёд, — предлагаю вам, коза Марфа, добровольно вернуться к месту проживания!
В ответ Яшка издал низкий, утробный звук, от которого у Афанасия шашка в ножнах зазвенела. А Марфа, осмелев под защитой своего избранника, встала и демонстративно боднула ближайший подсолнух. Тот рухнул, как подкошенный.
И тут бабка Фёкла, великий знаток житейской психологии, выступила вперёд.
— Эх, Архип, Архип... Силой тут не возьмёшь! Тут подход нужен, дипломатический! — сказала она и, повернувшись к Марфе, заговорила сладким, как патока, голосом: — Марфуша, голубушка! Ты подумай! Что тебя ждёт с этим... бородатым? Лес, комары, жёлуди... А у Архипа? Пойло тёплое, хлебушек с солью, почёт и уважение! Ты ж у нас коза знатная, а не какая-нибудь лесная оборванка!
Марфа навострила уши. Слова про хлебушек с солью, видимо, затронули в ней какие-то струны. Она посмотрела на Яшку, потом на свой бывший дом на том берегу. В её глазах мелькнуло сомнение.
Дед Архип понял, что это его шанс.
— Домой, Марфа! — уже не грозно, а жалостливо сказал он. — Я тебе новый сарай построю! С окном! И веник берёзовый каждый день давать буду! Свежий!
Это был решающий аргумент. Перспектива личного веника и сарая с окном перевесила чашу весов. Марфа решительно тряхнула головой, прощаясь с лесной романтикой, и, гордо задрав хвост, потрусила к своему хозяину. Яшка проводил её долгим, печальным взглядом, вздохнул, как умеют вздыхать только покинутые козлы, и снова принялся за кочерыжку — заедать горе.
Так и закончилась эта история. Марфу с триумфом вернули в станицу, где она стала местной легендой. Дед Архип простил её и даже построил сарай с окном. А станичники ещё долго, собираясь вечерами, со смехом вспоминали, то про огненного змея, то про цыганские бубны, и поднимали чарку за любовь, которая зла, и за берёзовый веник, который, как оказалось, сильнее всякой любви.
Проснулся Архип поутру, вышел во двор, а хлев пустой, и только верёвка перегрызенная на земле валяется. Дед в крик:
— Обокрали! Ироды! Последнюю радость стариковскую увели!
На крик сбежалась вся улица. Первой, как водится, примчалась бабка Фёкла, соседка его через плетень.
— Да кто ж на твою Марфу позарится, Архип? — молвила она, хитро щуря глаз. — Её ж даром возьмёшь — потом не оберёшься! Она мне намедни весь подол у сарафана нового изжевала!
— Молчи, ведьма старая! — притопнул ногой Архип. — Завидуешь молоку её! Это твоих рук дело! Признавайся, куда козу мою дела?
— Да чтоб мне пусто было! — закрестилась Фёкла. — Нужна мне твоя сатана рогатая! Она намедни урядника нашего так в бок приложила, что он три дня на боку спал!
Тут и сам урядник, Афанасий, подоспел. Шёл он, прихрамывая, и держался за бок, будто память была свежа.
— Что за шум, а драки нет? — грозно вопросил он.
— Козу украли! — в один голос закричали старики.
— Марфу? — уточнил Афанасий, и лицо его помрачнело. — Эту бестию? Да её не украсть, она сама кого хошь в полон возьмёт. Я как вспомню... так в боку колет.
Пока они препирались, мальчишка-пастушок, Ванятка, подбежал.
— Дед Архип! А я видел! Ночью видел!
Все обернулись к нему. Архип схватил его за плечо:
— Говори, орлёнок! Кого видел? Вора?
— Не-е-ет, — протянул Ванятка, вытирая нос рукавом. — Хуже! Я видел, как Марфа твоя на плетень запрыгнула, а потом... потом она на задние ноги встала, на небо поглядела, и её... её огненный змей унёс! Прямо в небо! Только копытца в темноте сверкнули!
На миг над станицей повисла такая тишина, что слышно было, как муха бьётся о стекло в доме урядника. Огненный змей? Унёс козу? Такого даже самые древние старики не припомнят.
Первой опомнилась бабка Фёкла. Она всплеснула руками и запричитала, обращаясь уже не к Архипу, а ко всей честной толпе:
— Я ж говорила! Я ж чуяла! Не простая это коза, не божье созданье! В ней нечистый сидел! Он-то её и уволок в преисподнюю свою!
— Какую ещё преисподнюю? — нахмурился урядник Афанасий, хотя в глазах его мелькнуло сомнение. — Ты, Фёкла, языком-то не мели! Змей, говоришь, Ванятка?
— Огненный! — с жаром подтвердил пастушок. — С хвостом, как метла, и искрами сыпал! А Марфа и не брыкалась вовсе! Будто ждала его! Залезла ему на спину, он крыльями как махнёт — и ввысь!
Тут уж и дед Архип сменил гнев на милость, а точнее — на праведный ужас. Он снял шапку, перекрестился и прошептал:
— Господи, помилуй... Так вот почему она молоко давала не простое, а приворотное! Помните, как Степан-кузнец его испил, так три дня своей жене в любви клялся, чего с ним отродясь не бывало!
— А как поп наш, отец Василий, откушал того молочка, так на колокольню полез и звонил Комаринскую, пока его не сняли! — подхватил кто-то из толпы.
Слухи и домыслы покатились по станице, как снежный ком с горы. Каждый вспоминал какую-нибудь каверзу, устроенную Марфой, и теперь всё сходилось: коза была ведьмой! Или, по крайней мере, её пособницей. Урядник Афанасий потёр ушибленный бок и задумчиво произнёс:
— Н-да... Дела... Тут простой кражей и не пахнет. Тут дело государственной важности! Покушение на устои! Надобно следствие учинить. Ванятка, а ну, веди, показывай место, откуда змей взлетал! Будем улики искать!
И вот, вся честная станица, во главе с урядником Афанасием, двинулась к хлеву деда Архипа, дабы вершить следствие по делу о козе-ведьме и огненном змее. Афанасий, для важности нацепив шашку, что уже и запамятовал, когда ее из ножен вынимал, шёл впереди, грозно озираясь.
— Так, — молвил он, подойдя к плетню, — вот место преступления! Ванятка, показывай, где улики змеиные!
Ванятка, войдя в роль главного свидетеля, ткнул пальцем в куст лопуха.
— Вот тута он стоял! И хвостом как вильнёт, так весь лопух и опалил!
Афанасий нагнулся, потрогал лист. Лист был совершенно зелёный и даже влажный от росы. Урядник кашлянул.
— Гм... Видать, змей был холодного горения. Особой породы. А ещё что?
— А ещё, — не унимался Ванятка, — он как дыхнул, так земля обуглилась!
Все уставились на землю. Земля была покрыта свежей травкой и... несколькими вполне себе обычными козьими «орешками». Бабка Фёкла, не будь дурой, тут же нашла объяснение:
— Так это не простое!.. Это уголья адские! Остыли просто! Не трожь, Афоня, а то рука отсохнет!
Афанасий благоразумно отдёрнул руку. Следствие заходило в тупик. И тут дед Архип, который до этого молча скорбел, вдруг хлопнул себя по лбу.
— Понял! Я всё понял! Это ж не змей был! Это ж цыгане!
Толпа загудела. Цыгане — это было куда понятнее огненных змеев.
— Какие цыгане, Архип? — недоверчиво спросил урядник.
— А такие! — горячился дед. — Они ж мастера по части морока! Они мальцу глаза отвели, змея ему подсунули заместо табора своего, а козу — в кибитку и поминай как звали! А знаете зачем?!
— Ну?! — выдохнула толпа.
— На бубны! — торжествующе провозгласил Архип. — У Марфы моей шкура — во! Крепкая! На самый главный шаманский бубен пойдёт! Будут они в него бить, а станичники наши икать да хворать!
От этой картины станичники пришли в такой ужас, что даже урядник побледнел. Перспектива стать частью цыганского бубна для козы Марфы, а самим икать до скончания века, была невыносима. И тут из толпы раздался тоненький голосок Семёна-коновала, мужика тихого и вечно пьяненького:
— А... а может, она... того... замуж вышла?
Все обернулись к нему, как к полоумному.
— За кого замуж, Сёма?! За змея?! — рявкнул Архип.
— Да не... — икнул Семён. — У нас же на том берегу козёл живёт, у лесника. Яшка. Зверь, а не козёл! Рога — во! Борода до колен! Может, она к нему сбежала? По любви?
Над станицей снова повисла тишина. Но на сей раз это была не тишина ужаса, а тишина напряжённой работы мысли. Версия Семёна про любовь была настолько проста и нелепа, что в неё поначалу никто не поверил. Но потом... потом бабка Фёкла вдруг хлопнула себя по бёдрам.
— А ведь и правда! — закричала она. — Я ж намедни видела, как Марфа твоя, Архип, у речки стояла! Стоит, на тот берег смотрит, и вздыхает! Да так тяжело вздыхает, что у меня аж герань на окне колыхнулась! Я-то думала, ей от обжорства дурно, а она, поди ж ты, от любви страдала!
Дед Архип побагровел. Мысль о том, что его боевая, идеологически подкованная коза могла променять его, казака, на какого-то козла с другого берега, была для него личным оскорблением.
— Да как она посмела?! — взревел он. — Без благословения! Без сватовства! Это ж позор на всю мою седую бороду! Увести козу из-под носа!
— Так её не увели, она сама ушла! — вставил своё слово Семён, осмелев. — Любовь, она, дед, зла... полюбишь и козла. Лесникова.
Урядник Афанасий, почувствовав, что дело из мистического переходит в разряд семейно-бытового, обрёл былую уверенность.
— Так! Прекратить балаган! Значит, говорите, козёл Яшка? Что за фрукт?
Тут из толпы вышел сам лесник, Кузьма, мужик угрюмый и нелюдимый.
— Фрукт что надо, — прогудел он басом. — Производитель элитный. Вчерась вечером пришёл мой Яшка домой. Весь в репьях, тиной пахнет, но довольный, как кот на печке. А с ним — невеста. Бодливая, зараза, и наглющая. Весь мой запас сушёных веников за ночь сожрала и теперь в огороде капусту доедает.
Всё стало на свои места. Не было ни змея, ни цыган. Был побег по любви. Дед Архип, осознав, что его коза не похищена, а просто сбежала к жениху, схватился за сердце.
— Ах, она, бесстыдница! Я её холил, лелеял, от волков берёг, а она!.. На какого-то бородатого променяла! Пойдём, Кузьма! Веди меня к ней! Я ей рога-то пообломаю!
И вот, вся процессия, что пять минут назад искала адские уголья, теперь двинулась через речку вброд к дому лесника — вершить семейный суд. Впереди, размахивая кулаками, шёл оскорблённый в лучших чувствах Архип. За ним, для порядка, семенил урядник Афанасий. А замыкала шествие вся станица, предвкушая зрелище, какого не видали со времён свадьбы того самого попа, что Комаринскую на колокольне отзванивал.
Когда делегация из станицы, отряхиваясь и отфыркиваясь, выбралась на берег у дома лесника, их взору предстала картина маслом. Прямо посреди огорода, где ещё вчера наливалась капуста, сидели двое. Козёл Яшка, огромный, бородатый и с видом философа, познавшего смысл бытия, лениво пережёвывал кочерыжку. А рядом с ним, прижавшись к его могучему боку, возлежала Марфа. Вид у неё был совершенно невинный, будто не она только что опозорила своего хозяина, разорила чужой огород и ввергла целую станицу в мистический ужас.
— Ах ты, паршивица! — первым нарушил идиллию дед Архип, потрясая кулаком. — А ну марш домой, блудница рогатая!
Марфа на это заявление лишь лениво повела ухом, но с места не сдвинулась. Яшка же, напротив, перестал жевать, поднял свою массивную голову и посмотрел на Архипа так, будто тот был прошлогодним листом капусты. В его взгляде читалось явное: «Чего надобно, старче?»
— Афанасий, вяжи их! — скомандовал Архип уряднику. — Он — похититель, она — соучастница!
Урядник Афанасий сглотнул. Подойти к этому зверюге, который был размером с доброго телёнка и смотрел на него с олимпийским спокойствием, было страшно. Но служба есть служба.
— Именем закона... — начал он, делая робкий шаг вперёд, — предлагаю вам, коза Марфа, добровольно вернуться к месту проживания!
В ответ Яшка издал низкий, утробный звук, от которого у Афанасия шашка в ножнах зазвенела. А Марфа, осмелев под защитой своего избранника, встала и демонстративно боднула ближайший подсолнух. Тот рухнул, как подкошенный.
И тут бабка Фёкла, великий знаток житейской психологии, выступила вперёд.
— Эх, Архип, Архип... Силой тут не возьмёшь! Тут подход нужен, дипломатический! — сказала она и, повернувшись к Марфе, заговорила сладким, как патока, голосом: — Марфуша, голубушка! Ты подумай! Что тебя ждёт с этим... бородатым? Лес, комары, жёлуди... А у Архипа? Пойло тёплое, хлебушек с солью, почёт и уважение! Ты ж у нас коза знатная, а не какая-нибудь лесная оборванка!
Марфа навострила уши. Слова про хлебушек с солью, видимо, затронули в ней какие-то струны. Она посмотрела на Яшку, потом на свой бывший дом на том берегу. В её глазах мелькнуло сомнение.
Дед Архип понял, что это его шанс.
— Домой, Марфа! — уже не грозно, а жалостливо сказал он. — Я тебе новый сарай построю! С окном! И веник берёзовый каждый день давать буду! Свежий!
Это был решающий аргумент. Перспектива личного веника и сарая с окном перевесила чашу весов. Марфа решительно тряхнула головой, прощаясь с лесной романтикой, и, гордо задрав хвост, потрусила к своему хозяину. Яшка проводил её долгим, печальным взглядом, вздохнул, как умеют вздыхать только покинутые козлы, и снова принялся за кочерыжку — заедать горе.
Так и закончилась эта история. Марфу с триумфом вернули в станицу, где она стала местной легендой. Дед Архип простил её и даже построил сарай с окном. А станичники ещё долго, собираясь вечерами, со смехом вспоминали, то про огненного змея, то про цыганские бубны, и поднимали чарку за любовь, которая зла, и за берёзовый веник, который, как оказалось, сильнее всякой любви.
18.10.2025 13:16
Степные были и полночные думы. Ведьмин «коготь»
На самом краю одной уральской станицы, там, где плетни редеют и уступают место старому кладбищу, в избе, приземистой и вросшей в землю, словно гриб-поганец, доживала свой век бабка Татьяна. Впрочем, «доживала» — слово неверное, ибо жизнь в ней кипела такая, что иному молодому казаку впору. Кипела она злобой чёрной, завистью едкой да знанием таким, от коего у простого человека кровь в жилах стынет.
Станичники Татьяну не то, чтобы недолюбливали — боялись её панически, как огня или моровой язвы. И было отчего! Зайдёт, бывало, в чужой сарай, поводит своими выцветшими, что два кусочка льда, глазками, погладит корову по боку, а к утру скотина уже лежит, вздув живот к небу. А сама Татьяна после того ходит по селу, хихикает себе под нос, и на пергаментных щеках её проступает румянец, яркий, нездоровый, словно наливное яблочко, что внутри уже сгнило.
Особливо любила бабка баню свою. И не для себя одной топила. То и дело зазывала к себе молодых женщин да девок: то спину полечить, то хворь паром выгнать, то на суженого поворожить. И уж после такой баньки выйдет гостья сама не своя, бледная, силы будто из неё вынули, а Татьяна, напротив, цветёт! Порхает, словно ей не восемьдесят, а восемнадцать, и румянец на щеках горит пылким жаром..
Но пуще всего на свете ненавидела ведьма своих невесток. Ночами, когда над погостом завывал ветер, запиралась Татьяна в своей избе. Из тряпья да соломы лепила она кукол, давая им имена ненавистных невесток. А после брала ржавую иглу и с шипением вонзала то в тряпичное сердце, то в нарисованный глаз, бормоча проклятья. Подкинет потом такую куклу под порог — и всё, считай, пропал человек. Начнёт у несчастной спину ломить так, что не разогнуться, ноги отниматься, а лекари лишь руками разводят.
А то и без кукол обходилась. Увидит кого на лавке, подойдёт сзади и будто невзначай проведёт рукой по спине. Или вовсе, притворяясь слепой, усядется прямо на колени сидящему, ахнет, да и погладит по ногам, приговаривая: «Ох, милок, видать, любишь ты меня, любишь ты, бабушку... раз я к тебе на колени села!» И всё. Куда рука её коснулась, там и поселится боль жгучая, ноющая, что ни мазью не вылечить, ни заговором не снять. А сама бабка после того резвая становится, словно лань, и огонь в глазах её пляшет бесовский.
Но самое страшное творилось по ночам на старом кладбище. Когда луна, тонкая, как серп, резала облака, видели смельчаки, как тень Татьяны скользила меж покосившихся крестов. Там, на свежих могилах, она выкапывала землю, шептала что-то, положит вещицу, ей одной ведомую, в вырытую ямку, закопает и идет обратно. А то и вовсе сказывали, что старые могилы разроет бабка Татьяна и шепчет в пустые глазницы черепов свои чёрные заклинания. Соберет в узелок кости да волосы мертвецов и варит она из этого зелья, дабы отнять молодость у живых и продлить свою проклятую жизнь. А то и вовсе, разложит на могильной плите волосы живого человека, да и прибьёт их осиновым колышком, обрекая несчастного на медленное угасание.
Были у неё и внучки. И на них у старой ведьмы имелись свои, одному чёрту ведомые, планы. Зазывала она их к себе на ночёвку, сулила пряники медовые. В такой день непременно топила баньку по-чёрному. Заведёт внучку в парную, поставит у самой каменки и прикажет строгим голосом:
— Стой тут, и ни с места! Ни шагу, слышишь?
А сама, кряхтя, лезет на крышу, где загодя была припасена дыра, и ну швырять оттуда камни, целясь прямо в малую головёнку. Однажды другая внучка, получив такой «гостинец», прибежала к ней в слезах: «Бабушка, зачем ты мне камень на голову кинула? Больно же!» А та, не моргнув глазом, отрезала: «Так надо!». И после того ходила неделю помолодевшая, спину выпрямив, с улыбкой на губах.
И вот однажды привела она так свою младшую внучку, Любочку. Было ей годочков шесть-семь. Поставила бабка ее в бане, в аккурат под самой дырой в потолке, велела не двигаться и полезла наверх. А Любочка, хоть и мала была, а страх её научил быть чуткой. Услышала она наверху возню и какой-то скрежет. И в тот миг, когда над головой её раздался странный звук, она, позабыв наказ, отскочила в сторону. Тяжёлый булыжник с глухим стуком врезался в пол там, где она только что стояла. В тот же миг с крыши раздался яростный вопль, и вниз, разъярённая, как гарпия, слетела Татьяна.
— Я что велела?! Стоять! Не двигаться! — кричала она, трясясь от злобы, и глаза её метали молнии.
Люба, не помня себя от ужаса, выскочила из бани и, как была босая, помчалась домой через огороды, не разбирая дороги. Влетела в избу, бросилась матери на шею и, захлёбываясь слезами, рассказала всё. С той поры ни за какие коврижки не ходила она к бабке, а если и видела её издали, бежала прочь, словно от самой смерти. Уж если она родных кровиночек не щадила, пытаясь отнять у них то ли жизнь, то ли молодость, то чего было ждать чужим людям?
Слух о происшествии в бане разнёсся по станице быстрее степного пожара. Люди, и до того боявшиеся Татьяну, теперь вовсе стали обходить её избу десятой дорогой. Но страх — плохой советчик. Он копился в душах, как грозовая туча, и никто не знал, когда он ударит. А сама Татьяна, казалось, лишь сильнее упивалась этим страхом. Но она не ведала, что маленькая Любушка, убежав из бани, унесла с собой не только страх, но и нечто иное… нечто, что старая ведьма обронила впопыхах на полу. И эта крохотная вещица должна была сыграть свою роль в судьбе всей станицы.
Прибежав домой и отдышавшись в материнских объятиях, Любочка разжала свой потный кулачок. На ладони лежал не камень и не щепка, а нечто странное: почерневший, кривой, острый предмет, похожий не то на коготь неведомого зверя, не то на зуб. Он был холодным, словно кусочек льда, и от него исходил едва уловимый запах серы и болотной гнили. Это и была та самая вещица, что сорвалась с шеи Татьяны, когда та в ярости слетела с крыши. Мать, увидев находку, побледнела, как полотно и, перекрестившись, велела дочери немедля выбросить «погань» в печь. Но Любочка, сама не зная почему, ослушалась. Что-то в этом зловещем предмете манило и пугало одновременно. Она завернула его в тряпицу и спрятала в укромном месте, в щели за печкой.
А в ведьминой избе тем временем творилось неладное. Татьяна металась по комнате, словно разъяренный зверь в клетке. Пропажа «чёртова зуба» — амулета, что давал ей силу, — лишила её покоя. Без него её колдовство слабело, а сама она становилась уязвимой. Румянец сполз с её щёк, оставив после себя землистую бледность, а в движениях появилась старческая немощь, которую она так тщательно скрывала. Она шарила по всем углам, переворачивала лавки, заглядывала в печь, но амулета нигде не было. И тогда страшная догадка обожгла её разум: девчонка! Проклятая внучка унесла его!
Злоба закипела в ней с новой силой. Но идти в дом к сыну и невестке она не могла — те и на порог бы её не пустили. Нужно было действовать хитрее. И Татьяна решила наслать на девочку хворь, да такую, чтобы она сама во сне принесла ей амулет обратно. Дождавшись полуночи, она взяла старую детскую рубашонку, что хранилась у неё, проткнула её веретеном и стала нашёптывать слова, от которых гасла лучина. Она призывала лихорадку, ломоту и ночные кошмары, чтобы измучить душу ребёнка и подчинить её своей воле.
И действительно, к утру девчушка слегла. Она металась в жару, бредила, звала матушку и что-то бессвязно лепетала про камни, падающие с неба. Родители сбились с ног: отпаивали её травяными отварами, звали станичного лекаря, но ничего не помогало. Девочка угасала на глазах. И каждую ночь ей снился один и тот же сон: бабка Татьяна стоит у её кровати, протягивает костлявую руку и требует: «Отдай моё! Отдай, или заберу тебя с собой в могилу!» В бреду Любочка твердила слова, будто с кем разговаривала:
«Не могу я придти! Не могу! А вещь твоя за печкой спрятана!»
Слух о болезни девочки и о том, что этому предшествовало, дошёл до самых дальних дворов. И страх, что доселе тихо тлел в сердцах станичников, начал разгораться в пламя ярости. Казаки, чьи жёны страдали от болей, чьи коровы пали, чьи дети боялись выходить на улицу, стали собираться вечерами у кабачка. Разговоры становились всё громче и злее. «Доколе терпеть ведьму?!» — гудел кто-то. «Спалить её избу вместе с ней!» — подхватывал другой. Терпение народа было на исходе. Не хватало лишь последней искры, чтобы поджечь этот пороховой погреб людской ненависти. И никто не знал, что этой искрой станет отчаянный поступок матери маленькой Любы, которая, видя, что дочь её умирает, решилась на то, на что до неё не решался никто в станице.
Мать девочки, женщина тихая и богобоязненная по имени Устинья, видела, как тает на её глазах жизнь единственной дочери. Лекарь разводил руками, молитвы не помогали, а жар сжигал девочку изнутри. Отчаяние, острое и холодное, как нож, вонзилось в её сердце. И в этом отчаянии родилась решимость. Если Бог не слышит, а люди боятся, значит, нужно искать помощи там, куда другие и глянуть страшатся. Она вспомнила рассказы своей бабушки о Захаре-отшельнике, что жил в лесу за болотами. Говорили, он знает язык трав и зверей, видит то, что скрыто от глаз простых смертных, и может противостоять тёмному колдовству.
Дождавшись, когда муж уйдёт в поле, Устинья, вспомнив слова дочери, произносимые в бреду, нашла за печкой узелок с «чёртовым зубом». Взяв его в руки, она почувствовала тот же могильный холод, что и дочь. Не мешкая ни минуты, она сунула амулет за пазуху и, перекрестившись на иконы, вышла из дома. Путь её лежал через всю станицу, мимо избы Татьяны. Проходя мимо проклятого двора, Устинья почувствовала на спине тяжёлый, сверлящий взгляд. Она не обернулась, лишь ускорила шаг, сердцем чуя, что ведьма знает, куда и зачем она идёт.
Лесная тропа к жилищу Захара была едва заметна и слыла в народе недоброй. Но материнская любовь была сильнее любого страха. Устинья шла сквозь бурелом, по колено вязла в топкой земле, а лес вокруг будто испытывал её: ухал филином, трещал сухими ветками, пугал тенями. Наконец, она вышла на небольшую поляну, посреди которой стояла вросшая в землю хижина, крытая мхом. Из трубы вился тонкий дымок. На пороге сидел старик, сухой и морщинистый, с бородой до пояса и глазами ясными и пронзительными.
— Знаю, с какой бедой пришла, Устинья, — сказал он, не дожидаясь её слов. — Показывай, что принесла.
Дрожащей рукой Устинья протянула ему тряпицу. Захар развернул её, и при виде «чёртова зуба» лицо его омрачилось.
— Великую беду ты в руках держала, женщина. Это не зуб и не коготь. Это осколок Чёрного камня, что лежит в основе её силы. Пока он у тебя, она слабеет, но и дитя твоё будет чахнуть, ибо связана с ним её кровью через проклятие. Вернёшь ей — погубишь дочь окончательно. Есть лишь один способ покончить с этим злом.
Он повёл Устинью вглубь леса, к старому, разбитому молнией дубу, в дупле которого чернела вода.
— Это Мёртвая вода, — тихо сказал отшельник. — Она забирает любую силу, и добрую, и злую. Опусти амулет в дупло на закате, и колдовская мощь Татьяны иссякнет, как ручей в засуху. Но берегись! В тот миг, как ты это сделаешь, она почувствует и придёт за тобой. Вся её ненависть, вся злоба обрушится на того, кто лишит её силы. У тебя будет лишь несколько мгновений, чтобы убежать. Не оборачивайся, что бы ни услышала позади. Беги домой и запри все двери.
Солнце уже клонилось к горизонту. Сердце Устиньи колотилось, как пойманная птица. Она стояла у старого дуба, сжимая в руке холодный амулет. Это был её выбор: рискнуть своей жизнью ради спасения дочери. И пока она готовилась совершить обряд, в станице сгущались тучи иного рода. Казаки, распалённые горячительным напитком и общим горем, уже не шептались, а кричали во весь голос. Толпа, ведомая слепой яростью, двинулась по улице. И путь их лежал прямо к почерневшей избе старой ведьмы Татьяны.
Как только последний луч солнца скрылся за горизонтом, Устинья, зажмурившись, разжала пальцы. «Чёртов зуб» беззвучно канул в тёмную воду дупла. В тот же миг по лесу пронёсся леденящий душу вой — нечеловеческий, полный боли и ужаса. Он донёсся со стороны станицы. Устинья не стала ждать. Вспомнив наказ Захара, она, не оглядываясь, бросилась бежать по темнеющей тропе, а за спиной трещали сучья и выл ветер, словно сама нечистая сила гналась за ней по пятам.
В это самое время вооруженная толпа станичников, уже окружила избу Татьяны. Дверь была заперта изнутри. Но разгневанный люд — страшнее любого тарана. Несколько ударов плечом, и старая дверь слетела с петель. Внутри, посреди избы, на полу, корчилась бабка Татьяна. Её лицо исказила гримаса невыносимой муки, руки скрючились, а из горла вырывался тот самый жуткий вой, что слышала в лесу Устинья. Она старела на глазах: кожа обвисала, покрываясь трупными пятнами, румянец сменился серой бледностью, а волосы становились белыми, как снег. Сила, которую она крала у других, покидала её, вытекая, как вода из дырявого ведра.
— Это она! Ведьма! — закричал кто-то, и это стало сигналом.
Люди, опьянённые гневом и долго сдерживаемым страхом, бросились внутрь. Их суд был скор и беспощаден. Через мгновение из окон ведьминой избы повалил густой чёрный дым, а следом вырвались языки огня. Дерево, старое и сухое, вспыхнуло, как порох. Люди молча смотрели, как огонь пожирает проклятое место, и в рёве пламени тонул последний, затихающий вой старой колдуньи.
Когда Устинья, задыхаясь, вбежала в свою избу, она увидела чудо. Дочка сидела на кровати. Жар спал, на щеках появился лёгкий румянец, а глаза смотрели ясно и осмысленно.
— Мама, мне приснилось, что большая чёрная птица вылетела из меня и сгорела, — тихо сказала она.
Устинья, рыдая, прижала дочь к себе. Всё было кончено.
На утро от избы Татьяны осталось лишь дымящееся пепелище. Никто не нашёл в углях её останков — будто и не было её вовсе, лишь горстка серого пепла, который первый же ветер развеял над старым кладбищем.
И с того дня станица, будто вздохнула полной грудью. Хворь, что мучила людей, отступила. Коровы снова стали давать молоко, а дети перестали бояться теней. Жизнь потекла своим чередом, спокойно и размеренно. Лишь выжженный пустырь на краю кладбища напоминал о страшной ведьме, что держала в страхе всю округу. Историю эту стали рассказывать шёпотом, как страшную сказку, чтобы помнили дети и внуки: зло, даже самое сильное, не всесильно, и однажды оно непременно падёт перед светом материнской любви и праведного народного гнева.
Станичники Татьяну не то, чтобы недолюбливали — боялись её панически, как огня или моровой язвы. И было отчего! Зайдёт, бывало, в чужой сарай, поводит своими выцветшими, что два кусочка льда, глазками, погладит корову по боку, а к утру скотина уже лежит, вздув живот к небу. А сама Татьяна после того ходит по селу, хихикает себе под нос, и на пергаментных щеках её проступает румянец, яркий, нездоровый, словно наливное яблочко, что внутри уже сгнило.
Особливо любила бабка баню свою. И не для себя одной топила. То и дело зазывала к себе молодых женщин да девок: то спину полечить, то хворь паром выгнать, то на суженого поворожить. И уж после такой баньки выйдет гостья сама не своя, бледная, силы будто из неё вынули, а Татьяна, напротив, цветёт! Порхает, словно ей не восемьдесят, а восемнадцать, и румянец на щеках горит пылким жаром..
Но пуще всего на свете ненавидела ведьма своих невесток. Ночами, когда над погостом завывал ветер, запиралась Татьяна в своей избе. Из тряпья да соломы лепила она кукол, давая им имена ненавистных невесток. А после брала ржавую иглу и с шипением вонзала то в тряпичное сердце, то в нарисованный глаз, бормоча проклятья. Подкинет потом такую куклу под порог — и всё, считай, пропал человек. Начнёт у несчастной спину ломить так, что не разогнуться, ноги отниматься, а лекари лишь руками разводят.
А то и без кукол обходилась. Увидит кого на лавке, подойдёт сзади и будто невзначай проведёт рукой по спине. Или вовсе, притворяясь слепой, усядется прямо на колени сидящему, ахнет, да и погладит по ногам, приговаривая: «Ох, милок, видать, любишь ты меня, любишь ты, бабушку... раз я к тебе на колени села!» И всё. Куда рука её коснулась, там и поселится боль жгучая, ноющая, что ни мазью не вылечить, ни заговором не снять. А сама бабка после того резвая становится, словно лань, и огонь в глазах её пляшет бесовский.
Но самое страшное творилось по ночам на старом кладбище. Когда луна, тонкая, как серп, резала облака, видели смельчаки, как тень Татьяны скользила меж покосившихся крестов. Там, на свежих могилах, она выкапывала землю, шептала что-то, положит вещицу, ей одной ведомую, в вырытую ямку, закопает и идет обратно. А то и вовсе сказывали, что старые могилы разроет бабка Татьяна и шепчет в пустые глазницы черепов свои чёрные заклинания. Соберет в узелок кости да волосы мертвецов и варит она из этого зелья, дабы отнять молодость у живых и продлить свою проклятую жизнь. А то и вовсе, разложит на могильной плите волосы живого человека, да и прибьёт их осиновым колышком, обрекая несчастного на медленное угасание.
Были у неё и внучки. И на них у старой ведьмы имелись свои, одному чёрту ведомые, планы. Зазывала она их к себе на ночёвку, сулила пряники медовые. В такой день непременно топила баньку по-чёрному. Заведёт внучку в парную, поставит у самой каменки и прикажет строгим голосом:
— Стой тут, и ни с места! Ни шагу, слышишь?
А сама, кряхтя, лезет на крышу, где загодя была припасена дыра, и ну швырять оттуда камни, целясь прямо в малую головёнку. Однажды другая внучка, получив такой «гостинец», прибежала к ней в слезах: «Бабушка, зачем ты мне камень на голову кинула? Больно же!» А та, не моргнув глазом, отрезала: «Так надо!». И после того ходила неделю помолодевшая, спину выпрямив, с улыбкой на губах.
И вот однажды привела она так свою младшую внучку, Любочку. Было ей годочков шесть-семь. Поставила бабка ее в бане, в аккурат под самой дырой в потолке, велела не двигаться и полезла наверх. А Любочка, хоть и мала была, а страх её научил быть чуткой. Услышала она наверху возню и какой-то скрежет. И в тот миг, когда над головой её раздался странный звук, она, позабыв наказ, отскочила в сторону. Тяжёлый булыжник с глухим стуком врезался в пол там, где она только что стояла. В тот же миг с крыши раздался яростный вопль, и вниз, разъярённая, как гарпия, слетела Татьяна.
— Я что велела?! Стоять! Не двигаться! — кричала она, трясясь от злобы, и глаза её метали молнии.
Люба, не помня себя от ужаса, выскочила из бани и, как была босая, помчалась домой через огороды, не разбирая дороги. Влетела в избу, бросилась матери на шею и, захлёбываясь слезами, рассказала всё. С той поры ни за какие коврижки не ходила она к бабке, а если и видела её издали, бежала прочь, словно от самой смерти. Уж если она родных кровиночек не щадила, пытаясь отнять у них то ли жизнь, то ли молодость, то чего было ждать чужим людям?
Слух о происшествии в бане разнёсся по станице быстрее степного пожара. Люди, и до того боявшиеся Татьяну, теперь вовсе стали обходить её избу десятой дорогой. Но страх — плохой советчик. Он копился в душах, как грозовая туча, и никто не знал, когда он ударит. А сама Татьяна, казалось, лишь сильнее упивалась этим страхом. Но она не ведала, что маленькая Любушка, убежав из бани, унесла с собой не только страх, но и нечто иное… нечто, что старая ведьма обронила впопыхах на полу. И эта крохотная вещица должна была сыграть свою роль в судьбе всей станицы.
Прибежав домой и отдышавшись в материнских объятиях, Любочка разжала свой потный кулачок. На ладони лежал не камень и не щепка, а нечто странное: почерневший, кривой, острый предмет, похожий не то на коготь неведомого зверя, не то на зуб. Он был холодным, словно кусочек льда, и от него исходил едва уловимый запах серы и болотной гнили. Это и была та самая вещица, что сорвалась с шеи Татьяны, когда та в ярости слетела с крыши. Мать, увидев находку, побледнела, как полотно и, перекрестившись, велела дочери немедля выбросить «погань» в печь. Но Любочка, сама не зная почему, ослушалась. Что-то в этом зловещем предмете манило и пугало одновременно. Она завернула его в тряпицу и спрятала в укромном месте, в щели за печкой.
А в ведьминой избе тем временем творилось неладное. Татьяна металась по комнате, словно разъяренный зверь в клетке. Пропажа «чёртова зуба» — амулета, что давал ей силу, — лишила её покоя. Без него её колдовство слабело, а сама она становилась уязвимой. Румянец сполз с её щёк, оставив после себя землистую бледность, а в движениях появилась старческая немощь, которую она так тщательно скрывала. Она шарила по всем углам, переворачивала лавки, заглядывала в печь, но амулета нигде не было. И тогда страшная догадка обожгла её разум: девчонка! Проклятая внучка унесла его!
Злоба закипела в ней с новой силой. Но идти в дом к сыну и невестке она не могла — те и на порог бы её не пустили. Нужно было действовать хитрее. И Татьяна решила наслать на девочку хворь, да такую, чтобы она сама во сне принесла ей амулет обратно. Дождавшись полуночи, она взяла старую детскую рубашонку, что хранилась у неё, проткнула её веретеном и стала нашёптывать слова, от которых гасла лучина. Она призывала лихорадку, ломоту и ночные кошмары, чтобы измучить душу ребёнка и подчинить её своей воле.
И действительно, к утру девчушка слегла. Она металась в жару, бредила, звала матушку и что-то бессвязно лепетала про камни, падающие с неба. Родители сбились с ног: отпаивали её травяными отварами, звали станичного лекаря, но ничего не помогало. Девочка угасала на глазах. И каждую ночь ей снился один и тот же сон: бабка Татьяна стоит у её кровати, протягивает костлявую руку и требует: «Отдай моё! Отдай, или заберу тебя с собой в могилу!» В бреду Любочка твердила слова, будто с кем разговаривала:
«Не могу я придти! Не могу! А вещь твоя за печкой спрятана!»
Слух о болезни девочки и о том, что этому предшествовало, дошёл до самых дальних дворов. И страх, что доселе тихо тлел в сердцах станичников, начал разгораться в пламя ярости. Казаки, чьи жёны страдали от болей, чьи коровы пали, чьи дети боялись выходить на улицу, стали собираться вечерами у кабачка. Разговоры становились всё громче и злее. «Доколе терпеть ведьму?!» — гудел кто-то. «Спалить её избу вместе с ней!» — подхватывал другой. Терпение народа было на исходе. Не хватало лишь последней искры, чтобы поджечь этот пороховой погреб людской ненависти. И никто не знал, что этой искрой станет отчаянный поступок матери маленькой Любы, которая, видя, что дочь её умирает, решилась на то, на что до неё не решался никто в станице.
Мать девочки, женщина тихая и богобоязненная по имени Устинья, видела, как тает на её глазах жизнь единственной дочери. Лекарь разводил руками, молитвы не помогали, а жар сжигал девочку изнутри. Отчаяние, острое и холодное, как нож, вонзилось в её сердце. И в этом отчаянии родилась решимость. Если Бог не слышит, а люди боятся, значит, нужно искать помощи там, куда другие и глянуть страшатся. Она вспомнила рассказы своей бабушки о Захаре-отшельнике, что жил в лесу за болотами. Говорили, он знает язык трав и зверей, видит то, что скрыто от глаз простых смертных, и может противостоять тёмному колдовству.
Дождавшись, когда муж уйдёт в поле, Устинья, вспомнив слова дочери, произносимые в бреду, нашла за печкой узелок с «чёртовым зубом». Взяв его в руки, она почувствовала тот же могильный холод, что и дочь. Не мешкая ни минуты, она сунула амулет за пазуху и, перекрестившись на иконы, вышла из дома. Путь её лежал через всю станицу, мимо избы Татьяны. Проходя мимо проклятого двора, Устинья почувствовала на спине тяжёлый, сверлящий взгляд. Она не обернулась, лишь ускорила шаг, сердцем чуя, что ведьма знает, куда и зачем она идёт.
Лесная тропа к жилищу Захара была едва заметна и слыла в народе недоброй. Но материнская любовь была сильнее любого страха. Устинья шла сквозь бурелом, по колено вязла в топкой земле, а лес вокруг будто испытывал её: ухал филином, трещал сухими ветками, пугал тенями. Наконец, она вышла на небольшую поляну, посреди которой стояла вросшая в землю хижина, крытая мхом. Из трубы вился тонкий дымок. На пороге сидел старик, сухой и морщинистый, с бородой до пояса и глазами ясными и пронзительными.
— Знаю, с какой бедой пришла, Устинья, — сказал он, не дожидаясь её слов. — Показывай, что принесла.
Дрожащей рукой Устинья протянула ему тряпицу. Захар развернул её, и при виде «чёртова зуба» лицо его омрачилось.
— Великую беду ты в руках держала, женщина. Это не зуб и не коготь. Это осколок Чёрного камня, что лежит в основе её силы. Пока он у тебя, она слабеет, но и дитя твоё будет чахнуть, ибо связана с ним её кровью через проклятие. Вернёшь ей — погубишь дочь окончательно. Есть лишь один способ покончить с этим злом.
Он повёл Устинью вглубь леса, к старому, разбитому молнией дубу, в дупле которого чернела вода.
— Это Мёртвая вода, — тихо сказал отшельник. — Она забирает любую силу, и добрую, и злую. Опусти амулет в дупло на закате, и колдовская мощь Татьяны иссякнет, как ручей в засуху. Но берегись! В тот миг, как ты это сделаешь, она почувствует и придёт за тобой. Вся её ненависть, вся злоба обрушится на того, кто лишит её силы. У тебя будет лишь несколько мгновений, чтобы убежать. Не оборачивайся, что бы ни услышала позади. Беги домой и запри все двери.
Солнце уже клонилось к горизонту. Сердце Устиньи колотилось, как пойманная птица. Она стояла у старого дуба, сжимая в руке холодный амулет. Это был её выбор: рискнуть своей жизнью ради спасения дочери. И пока она готовилась совершить обряд, в станице сгущались тучи иного рода. Казаки, распалённые горячительным напитком и общим горем, уже не шептались, а кричали во весь голос. Толпа, ведомая слепой яростью, двинулась по улице. И путь их лежал прямо к почерневшей избе старой ведьмы Татьяны.
Как только последний луч солнца скрылся за горизонтом, Устинья, зажмурившись, разжала пальцы. «Чёртов зуб» беззвучно канул в тёмную воду дупла. В тот же миг по лесу пронёсся леденящий душу вой — нечеловеческий, полный боли и ужаса. Он донёсся со стороны станицы. Устинья не стала ждать. Вспомнив наказ Захара, она, не оглядываясь, бросилась бежать по темнеющей тропе, а за спиной трещали сучья и выл ветер, словно сама нечистая сила гналась за ней по пятам.
В это самое время вооруженная толпа станичников, уже окружила избу Татьяны. Дверь была заперта изнутри. Но разгневанный люд — страшнее любого тарана. Несколько ударов плечом, и старая дверь слетела с петель. Внутри, посреди избы, на полу, корчилась бабка Татьяна. Её лицо исказила гримаса невыносимой муки, руки скрючились, а из горла вырывался тот самый жуткий вой, что слышала в лесу Устинья. Она старела на глазах: кожа обвисала, покрываясь трупными пятнами, румянец сменился серой бледностью, а волосы становились белыми, как снег. Сила, которую она крала у других, покидала её, вытекая, как вода из дырявого ведра.
— Это она! Ведьма! — закричал кто-то, и это стало сигналом.
Люди, опьянённые гневом и долго сдерживаемым страхом, бросились внутрь. Их суд был скор и беспощаден. Через мгновение из окон ведьминой избы повалил густой чёрный дым, а следом вырвались языки огня. Дерево, старое и сухое, вспыхнуло, как порох. Люди молча смотрели, как огонь пожирает проклятое место, и в рёве пламени тонул последний, затихающий вой старой колдуньи.
Когда Устинья, задыхаясь, вбежала в свою избу, она увидела чудо. Дочка сидела на кровати. Жар спал, на щеках появился лёгкий румянец, а глаза смотрели ясно и осмысленно.
— Мама, мне приснилось, что большая чёрная птица вылетела из меня и сгорела, — тихо сказала она.
Устинья, рыдая, прижала дочь к себе. Всё было кончено.
На утро от избы Татьяны осталось лишь дымящееся пепелище. Никто не нашёл в углях её останков — будто и не было её вовсе, лишь горстка серого пепла, который первый же ветер развеял над старым кладбищем.
И с того дня станица, будто вздохнула полной грудью. Хворь, что мучила людей, отступила. Коровы снова стали давать молоко, а дети перестали бояться теней. Жизнь потекла своим чередом, спокойно и размеренно. Лишь выжженный пустырь на краю кладбища напоминал о страшной ведьме, что держала в страхе всю округу. Историю эту стали рассказывать шёпотом, как страшную сказку, чтобы помнили дети и внуки: зло, даже самое сильное, не всесильно, и однажды оно непременно падёт перед светом материнской любви и праведного народного гнева.
14.10.2025 18:04
Сказание о премудром Вонюше и жемчужной подати
В глубокой заводи, где солнечный свет едва пробивался сквозь толщу воды и лениво золотил верхушки водорослей, обитало общество весьма почтенное: степенные лещи, суетливые окуньки, задумчивые сомы и прочий речной народ. И был среди них один пескарь, который почитал себя не просто пескарём, а средоточием всей подводной мудрости. Звали его Вонюш.
Имя сие происходило не от запаха тлена, нет-нет, а от древнего, почти забытого слова «вонми», то есть «внимай мудрости». По крайней мере, так он сам всем объяснял, важно шевеля усами. На деле же Вонюш был туп, как сибирский валенок, но эту тупость мастерски драпировал в такие словесные кружева, что многие принимали её за глубокомыслие. Для пущей важности он носил на носу очки из двух идеально круглых и пустых раковин улитки. Стёкол в них не было, но Вонюш утверждал, что они помогают ему «фокусировать ментальные потоки». Иногда он забывался, и очки съезжали ему на рот, отчего он начинал невнятно чавкать, но тут же поправлял их с видом «так и было задумано для лучшей артикуляции». Писать, правда, не умел, утверждая, что «истинная мудрость не терпит статичности знаков, она флюидна и проистекает вербально».
Была у Вонюша и супруга — пескариха Голюшь, особа с глазами навыкате и непомерными амбициями. Имя её, как уверял Вонюш, происходило от древнего термина «голиаф», что означало «великая» и «несокрушимая». Хотя большинство соседей считало, что оно происходит от слова «голь перекатная», намекая на её непомерную жадность. Голюшь была точной копией мужа, только брала не заумью, а криком. Голос у неё был до того писклявый и пронзительный, что напоминал звук пилы, вгрызающейся в сухую корягу. Оба они считали себя рыбами профессорского ума, хотя ни один не умел начертать и простейшего иероглифа на песке, ссылаясь на трудное детство среди безграмотных пиявок.
Пока Вонюш вещал о высоком, Голюшь занималась делами донными. Однажды утром она объявила, что отныне вводится «Жемчужная Подать».
— Внемлите, серые вы душонки! — завизжала она так, что у ближайших улиток скрутило в узел рожки. — Вода, которой вы дышите, не бесплатна! Течение, что приносит вам корм, — тоже! За всё надобно платить! Каждая чешуйка обязана сдать по три перламутровых ракушки в месяц в нашу казну! ПЛАТИ! А то трубу обрежем!
Какую трубу она имела в виду, никто не понял, но звучало угрожающе. Поднялся ропот. Первым не выдержал старый, усатый Сом Сомыч.
— Позвольте, мадам, — прогудел он басом. — А на что, простите, пойдут наши ракушки? На укрепление берегов? На расчистку дна от мусора?
Тут же из-за коряги выплыл Вонюш, медленно и величаво.
— О, недальновидный обитатель придонного ила! — начал он свою шарманку. — Ты мыслишь категориями материальными, тогда как суть вещей кроется в синергии метафизических потоков! Подать — это не сбор, это акт сакрального единения с экосистемой! Ваши ракушки трансформируются в эманации благополучия, которые незримо осядут на вашу же чешую!
Сом моргнул. Окуньки перестали гоняться за мальком. Все пытались понять, что сейчас было сказано. А Вонюш продолжал:
— Вы, инфузории одноклеточные, неспособны постичь глубину моего замысла! Только я, носитель высшего знания, могу направить вас по вектору процветания! А несогласные… — тут он сделал паузу, — будут помещены в Камеру Осознания!
Камерой Осознания была обычная трёхлитровая банка, которую когда-то уронили рыбаки. Несогласных — а ими оказались пара ершей и молодой лещ — отлавливали и сажали в эту банку. Наказание было страшным: Вонюш подплывал к банке трижды в день и по часу читал им свои лекции о «флюидных эманациях» и «векторах развития». Через день несчастные начинали биться головой о стекло и соглашались на всё, лишь бы их выпустили.
Так и потекла жизнь. Речной народ, ворча, сдавал ракушки. Пескариха Голюшь принимала их с важным видом, а Вонюш вещал о грядущем процветании. На что шли собранные богатства, никто не знал. Вонюш на все вопросы отвечал туманно: «Средства инвестируются в стабилизацию гидродинамических процессов!»
Развязка наступила внезапно. Щука-разбойница, которой надоело слушать бредни Вонюша и визги Голюши, решила провести своё расследование. Ночью она незаметно подкралась к их норе и заглянула внутрь. Картина была дивная. Пескариха Голюшь, вся увешанная ожерельями из самого отборного перламутра, примеряла перед осколком зеркала новую диадему из речного жемчуга. А рядом, в укромной ямке, сидел премудрый Вонюш. Он с блаженным видом занюхивал измельчённую сушёную тину (местный аналог горячительного) и пускал пузыри, бормоча: «Ох, хороша эманация… Прямо в жабры бьёт…»
На утро щука созвала всех на суд. Когда Вонюша и Голюшь выволокли из норы, увешанной цацками, гнев толпы был страшен.
— В Камеру Осознания их! Пожизненно! — кричали ерши.
Но Сом Сомыч, мудрый сом, рассудил иначе.
— Нет, — прогудел он. — Лекции — слишком лёгкое наказание. Тогда речной люд присудил им вечные отработки. Убирать дно ильное от мусора. Но не хвостами. Языками!
И вот она, картина, достойная кисти великого мастера! В центре заводи, на глазах у всего честного народа, ползают по дну Вонюш и Голюшь. Они молчат, потому что рты заняты делом — они вылизывают ил и грязь с камней. А вокруг стоит хохот. Мальки подплывают и дёргают Вонюша за ус: «Дяденька, а расскажи про вектор!». А окуньки бросают рядом с пескарихой пустую ракушку и кричат: «Мадам, вы обронили! Не хватает на новые бусы?».
Так и по сей день чистят Вонюш и Голюшь дно реки, пуская пузыри на дне, вспоминая дни былого величия, когда ракушки текли рекой, а тина была особенно забористой. И если увидите на дне двух пескарей, один из которых в очках без стёкол, а вторая что-то беззвучно визжит, знайте — это они, отбывают свой вечный срок.
Имя сие происходило не от запаха тлена, нет-нет, а от древнего, почти забытого слова «вонми», то есть «внимай мудрости». По крайней мере, так он сам всем объяснял, важно шевеля усами. На деле же Вонюш был туп, как сибирский валенок, но эту тупость мастерски драпировал в такие словесные кружева, что многие принимали её за глубокомыслие. Для пущей важности он носил на носу очки из двух идеально круглых и пустых раковин улитки. Стёкол в них не было, но Вонюш утверждал, что они помогают ему «фокусировать ментальные потоки». Иногда он забывался, и очки съезжали ему на рот, отчего он начинал невнятно чавкать, но тут же поправлял их с видом «так и было задумано для лучшей артикуляции». Писать, правда, не умел, утверждая, что «истинная мудрость не терпит статичности знаков, она флюидна и проистекает вербально».
Была у Вонюша и супруга — пескариха Голюшь, особа с глазами навыкате и непомерными амбициями. Имя её, как уверял Вонюш, происходило от древнего термина «голиаф», что означало «великая» и «несокрушимая». Хотя большинство соседей считало, что оно происходит от слова «голь перекатная», намекая на её непомерную жадность. Голюшь была точной копией мужа, только брала не заумью, а криком. Голос у неё был до того писклявый и пронзительный, что напоминал звук пилы, вгрызающейся в сухую корягу. Оба они считали себя рыбами профессорского ума, хотя ни один не умел начертать и простейшего иероглифа на песке, ссылаясь на трудное детство среди безграмотных пиявок.
Пока Вонюш вещал о высоком, Голюшь занималась делами донными. Однажды утром она объявила, что отныне вводится «Жемчужная Подать».
— Внемлите, серые вы душонки! — завизжала она так, что у ближайших улиток скрутило в узел рожки. — Вода, которой вы дышите, не бесплатна! Течение, что приносит вам корм, — тоже! За всё надобно платить! Каждая чешуйка обязана сдать по три перламутровых ракушки в месяц в нашу казну! ПЛАТИ! А то трубу обрежем!
Какую трубу она имела в виду, никто не понял, но звучало угрожающе. Поднялся ропот. Первым не выдержал старый, усатый Сом Сомыч.
— Позвольте, мадам, — прогудел он басом. — А на что, простите, пойдут наши ракушки? На укрепление берегов? На расчистку дна от мусора?
Тут же из-за коряги выплыл Вонюш, медленно и величаво.
— О, недальновидный обитатель придонного ила! — начал он свою шарманку. — Ты мыслишь категориями материальными, тогда как суть вещей кроется в синергии метафизических потоков! Подать — это не сбор, это акт сакрального единения с экосистемой! Ваши ракушки трансформируются в эманации благополучия, которые незримо осядут на вашу же чешую!
Сом моргнул. Окуньки перестали гоняться за мальком. Все пытались понять, что сейчас было сказано. А Вонюш продолжал:
— Вы, инфузории одноклеточные, неспособны постичь глубину моего замысла! Только я, носитель высшего знания, могу направить вас по вектору процветания! А несогласные… — тут он сделал паузу, — будут помещены в Камеру Осознания!
Камерой Осознания была обычная трёхлитровая банка, которую когда-то уронили рыбаки. Несогласных — а ими оказались пара ершей и молодой лещ — отлавливали и сажали в эту банку. Наказание было страшным: Вонюш подплывал к банке трижды в день и по часу читал им свои лекции о «флюидных эманациях» и «векторах развития». Через день несчастные начинали биться головой о стекло и соглашались на всё, лишь бы их выпустили.
Так и потекла жизнь. Речной народ, ворча, сдавал ракушки. Пескариха Голюшь принимала их с важным видом, а Вонюш вещал о грядущем процветании. На что шли собранные богатства, никто не знал. Вонюш на все вопросы отвечал туманно: «Средства инвестируются в стабилизацию гидродинамических процессов!»
Развязка наступила внезапно. Щука-разбойница, которой надоело слушать бредни Вонюша и визги Голюши, решила провести своё расследование. Ночью она незаметно подкралась к их норе и заглянула внутрь. Картина была дивная. Пескариха Голюшь, вся увешанная ожерельями из самого отборного перламутра, примеряла перед осколком зеркала новую диадему из речного жемчуга. А рядом, в укромной ямке, сидел премудрый Вонюш. Он с блаженным видом занюхивал измельчённую сушёную тину (местный аналог горячительного) и пускал пузыри, бормоча: «Ох, хороша эманация… Прямо в жабры бьёт…»
На утро щука созвала всех на суд. Когда Вонюша и Голюшь выволокли из норы, увешанной цацками, гнев толпы был страшен.
— В Камеру Осознания их! Пожизненно! — кричали ерши.
Но Сом Сомыч, мудрый сом, рассудил иначе.
— Нет, — прогудел он. — Лекции — слишком лёгкое наказание. Тогда речной люд присудил им вечные отработки. Убирать дно ильное от мусора. Но не хвостами. Языками!
И вот она, картина, достойная кисти великого мастера! В центре заводи, на глазах у всего честного народа, ползают по дну Вонюш и Голюшь. Они молчат, потому что рты заняты делом — они вылизывают ил и грязь с камней. А вокруг стоит хохот. Мальки подплывают и дёргают Вонюша за ус: «Дяденька, а расскажи про вектор!». А окуньки бросают рядом с пескарихой пустую ракушку и кричат: «Мадам, вы обронили! Не хватает на новые бусы?».
Так и по сей день чистят Вонюш и Голюшь дно реки, пуская пузыри на дне, вспоминая дни былого величия, когда ракушки текли рекой, а тина была особенно забористой. И если увидите на дне двух пескарей, один из которых в очках без стёкол, а вторая что-то беззвучно визжит, знайте — это они, отбывают свой вечный срок.
12.10.2025 21:36
Негасимый свет под Покровом. Испытание и чудо
Годы лихолетья, пронёсшиеся огненным вихрем по Русской земле, не обошли стороной и Покровский храм. Чёрная весть — «Приехали рушить!» — застала сельчан на полевых работах. И тогда, побросав косы и плуги, в село со всех сторон, не разбирая дороги, бежали и стар, и млад. Они встали живым щитом на защиту своей святыни. Против вооружённых красноармейцев у них были лишь вилы, лопаты да топоры, но главным их оружием была несокрушимая вера. В том живом щите, рядом со взрослыми, стояли и их дети, взирая на происходящее недетскими глазами.
Народное предание сохранило рассказ о том, как один из красноармейцев, забравшись на колокольню, сорвался и разбился. Через несколько дней он скончался, и никто из села не пришёл на его похороны. Убранство храма было разорено, святые иконы, намоленные поколениями, безбожники швыряли в костёр. Но люди, рискуя собой, выхватывали лики святых прямо из огня и прятали по домам. Одна из спасённых икон, «Благословение Божией Матери на Царство Небесное», так и не вернулась в храм, став бесценной семейной реликвией.
В семье Вязиковых сумели сохранить и часть церковной утвари. Один из членов этой семьи, трудившийся в свечной лавке, сумел тайком вынести и укрыть самое ценное. И спрятал он сокровище на самом видном месте — сложил всё в большой сундук, что стоял в передней, главной комнате дома, и накрыл его простым пологом. Сам он был позже репрессирован и четырнадцать лет провёл в лагерях. Однажды в дом нагрянули с обыском — искали колоски, якобы унесённые с поля. И сундук спас маленький мальчик, Леонид Степанович Вязиков, которому было тогда не более семи лет. Он просто сел на сундук и так ладно и по-взрослому отвечал на вопросы, что пришедшие потеряли к сундуку всякий интерес. Очевидцы после дивились: говорил он словно не своим голосом, и речи его не соответствовали возрасту, будто сама неведомая сила помогала и вложила слова в его уста. Спустя многие десятилетия, когда он отошёл ко Господу, прозорливый священник отец Григорий Петренко, подойдя к его гробу, промолвил: «Ладный домик ты себе сумел выправить».
Об этом монахине - матушке Иоанне при жизни рассказала Клавдия Степановна Тюмикова - сестра Леонида Степановича.
Есть народное предание о том, что в приходе состояла женщина, родственник которой служил в НКВД, и она через него помогла продвинуть ходатайство о том, чтобы храм, как здание передали в колхоз. Подтверждения этого ходатайства нет, но после 1937 года храм, хоть и уцелевший, был закрыт и отдан под колхозные нужды. В его стенах располагался то пионерский лагерь, то зернохранилище. Но даже в поругании Господь не оставлял Свой дом. С тем временем связано несколько чудесных преданий.
Когда в храме разместили детей, одной из ночей случилось явление Божией Матери. Женщина, присматривавшая за спящими детьми, проснувшись, увидела высокую женщину в белых одеяниях. Она тихо ходила между кроватками, поправляла на детях одеяльца и с материнской скорбью приговаривала: «Вам тут не место, вам тут не место!». В изумлении женщина закричала; проснулись и заплакали дети. Все в страхе выбежали на улицу и после наотрез отказались возвращаться. Для детей спешно нашли другое помещение.
По воспоминаниям ныне покойной Анны Андреевны Землянухиной, когда в храме хранили зерно, там же устраивали концерты и показывали кино. Однажды ей, тогда ещё юной девушке, поручили петь со сцены агитационную песню. Отказаться было нельзя — это сочли бы саботажем, а по округе шла волна арестов. Она была вынуждена была согласиться, чтобы не подводить свою семью. Их в семье было шесть детей, Анна старшая. Девушка вышла на сцену, устроенную там, где из алтаря выходят священнослужители, и вдруг словно окаменела. Голос пропал, слова песни вылетели из головы, а ноги затряслись и стали как чужие. Простояв так несколько минут в полной тишине, ей сказали уйти. Чувство вины за то невольное кощунство она пронесла через всю жизнь.
А такую историю нам поведала Нина Дмитриевна Гнётова.
По рассказам родителей, около храма жила семья по фамилии Седой (или уличное прозвище). В семье были две дочери: Клавдия и Татьяна. За одной из девушек ухаживал парень Василий Землянухин.
Однажды вечером Василий, возвращаясь домой мимо запертого храма, обомлел. Все окна святыни сияли мягким светом, словно внутри горели сотни свечей, а из-за закрытых дверей доносилось дивное хоровое пение. В потрясении он прибежал домой, но и его мать знала — храм под замком, и внутри лишь зерно. Современные насельники обители, также рассказывают о том, что ранним утром слышали, как в закрытом храме поют женский и мужской голос.
Так сама Небесная Церковь совершала службу в осквернённом, но не оставленном Богом доме.
Народное предание сохранило рассказ о том, как один из красноармейцев, забравшись на колокольню, сорвался и разбился. Через несколько дней он скончался, и никто из села не пришёл на его похороны. Убранство храма было разорено, святые иконы, намоленные поколениями, безбожники швыряли в костёр. Но люди, рискуя собой, выхватывали лики святых прямо из огня и прятали по домам. Одна из спасённых икон, «Благословение Божией Матери на Царство Небесное», так и не вернулась в храм, став бесценной семейной реликвией.
В семье Вязиковых сумели сохранить и часть церковной утвари. Один из членов этой семьи, трудившийся в свечной лавке, сумел тайком вынести и укрыть самое ценное. И спрятал он сокровище на самом видном месте — сложил всё в большой сундук, что стоял в передней, главной комнате дома, и накрыл его простым пологом. Сам он был позже репрессирован и четырнадцать лет провёл в лагерях. Однажды в дом нагрянули с обыском — искали колоски, якобы унесённые с поля. И сундук спас маленький мальчик, Леонид Степанович Вязиков, которому было тогда не более семи лет. Он просто сел на сундук и так ладно и по-взрослому отвечал на вопросы, что пришедшие потеряли к сундуку всякий интерес. Очевидцы после дивились: говорил он словно не своим голосом, и речи его не соответствовали возрасту, будто сама неведомая сила помогала и вложила слова в его уста. Спустя многие десятилетия, когда он отошёл ко Господу, прозорливый священник отец Григорий Петренко, подойдя к его гробу, промолвил: «Ладный домик ты себе сумел выправить».
Об этом монахине - матушке Иоанне при жизни рассказала Клавдия Степановна Тюмикова - сестра Леонида Степановича.
Есть народное предание о том, что в приходе состояла женщина, родственник которой служил в НКВД, и она через него помогла продвинуть ходатайство о том, чтобы храм, как здание передали в колхоз. Подтверждения этого ходатайства нет, но после 1937 года храм, хоть и уцелевший, был закрыт и отдан под колхозные нужды. В его стенах располагался то пионерский лагерь, то зернохранилище. Но даже в поругании Господь не оставлял Свой дом. С тем временем связано несколько чудесных преданий.
Когда в храме разместили детей, одной из ночей случилось явление Божией Матери. Женщина, присматривавшая за спящими детьми, проснувшись, увидела высокую женщину в белых одеяниях. Она тихо ходила между кроватками, поправляла на детях одеяльца и с материнской скорбью приговаривала: «Вам тут не место, вам тут не место!». В изумлении женщина закричала; проснулись и заплакали дети. Все в страхе выбежали на улицу и после наотрез отказались возвращаться. Для детей спешно нашли другое помещение.
По воспоминаниям ныне покойной Анны Андреевны Землянухиной, когда в храме хранили зерно, там же устраивали концерты и показывали кино. Однажды ей, тогда ещё юной девушке, поручили петь со сцены агитационную песню. Отказаться было нельзя — это сочли бы саботажем, а по округе шла волна арестов. Она была вынуждена была согласиться, чтобы не подводить свою семью. Их в семье было шесть детей, Анна старшая. Девушка вышла на сцену, устроенную там, где из алтаря выходят священнослужители, и вдруг словно окаменела. Голос пропал, слова песни вылетели из головы, а ноги затряслись и стали как чужие. Простояв так несколько минут в полной тишине, ей сказали уйти. Чувство вины за то невольное кощунство она пронесла через всю жизнь.
А такую историю нам поведала Нина Дмитриевна Гнётова.
По рассказам родителей, около храма жила семья по фамилии Седой (или уличное прозвище). В семье были две дочери: Клавдия и Татьяна. За одной из девушек ухаживал парень Василий Землянухин.
Однажды вечером Василий, возвращаясь домой мимо запертого храма, обомлел. Все окна святыни сияли мягким светом, словно внутри горели сотни свечей, а из-за закрытых дверей доносилось дивное хоровое пение. В потрясении он прибежал домой, но и его мать знала — храм под замком, и внутри лишь зерно. Современные насельники обители, также рассказывают о том, что ранним утром слышали, как в закрытом храме поют женский и мужской голос.
Так сама Небесная Церковь совершала службу в осквернённом, но не оставленном Богом доме.
12.10.2025 19:21
Негасимый свет под Покровом. Пятый удел Богородицы
На благословенной Оренбургской земле, в селе Верхняя Платовка Новосергиевского района, стоит дивный храм, который в народе с любовью и трепетом величают пятым уделом Пресвятой Богородицы. Этот Храм Покрова, деревянный, рубленый, возведённый без единого гвоздя, как то делали прадеды, вкладывая в каждое бревно не только мастерство, но и молитву. Одна главка венчает его, устремляясь в небо, и один престол освящает его своды. Длина храма: 19.4 м. Ширина: 8.2 м. Окон: 17.
Храму этому уже более ста тридцати лет, и само место это, старинное, намоленное, хранит в себе отголоски бесчисленных молитв. Он был заложен в 1893 году, а освящён 29 сентября 1896 года. Однако, как свидетельствуют старинные метрические книги, приход здесь сложился задолго до того, как были срублены первые венцы. История его богата, овеяна народными преданиями и даже легендами.
Одна из таких легенд, передаваемая из уст в уста, гласит, что на том самом месте, где ныне стоит алтарь, однажды ночью сама собой зажглась и горела свеча. Это чудо было воспринято как несомненное знамение свыше, как указание Самой Царицы Небесной на место для Её дома.
Имена зодчих, сотворивших это деревянное чудо, канули в Лету, но народная память сохранила предание о «пришлых умельцах» — переселенцах из Воронежской, Пензенской и других губерний, принёсших на оренбургскую землю своё искусство. Строился храм всем миром, на народные деньги. Жители окрестных сёл и деревень, освободившись от полевых работ, осенью и зимой спешили на стройку, чтобы внести свою лепту. В один из годов случился небывалый урожай зерна; его продали, а на вырученные деньги закупили лучший лес, который подводами везли из Бузулукского уезда, из самой Колтубановки (ныне село Колтубанка Бузулукского района Оренбургской области).
Щедры были и пожертвования. Сохранилась в народе история о жителе Верхней Платовки по фамилии Милованов. Он пригнал к строящемуся храму двух своих лучших быков и устроил аукцион. Когда же была названа последняя, самая высокая цена, он, к изумлению всех, объявил, что жертвует эту сумму на храм, а быков, свою гордость, увёл обратно домой. Доподлинно известно и о пожертвовании оренбургского купца Алексея Ивановича Зарывнова, который в 1893 году был удостоен за свою щедрость Архипастырского благословения от митрополита Макария.
Из оставшегося от строительства леса было решено построить рядом церковно-приходскую школу, дабы дети с малых лет учились грамоте и Закону Божьему.
Метрические книги сохранили для нас имена первых священнослужителей, чьи судьбы оказались навеки вплетены в историю храма:
1. Иоанн Преображенский (1884 г.)
2. Василий Зверев (1892 г.)
3. Афанасий Китаев (1893 г.), с матушкой Натальей Васильевной. 10 января 1894 г. родилась у них дочь Валентина.
4. Иоанн Страхов (1894 г.)
5. Михаил Сильвестров (1897 г.) (стаж службы к этому времени 18 лет).
6. Георгий Пономарёв (1898-1903 гг.), с матушкой Надеждой Николаевной. 28 апреля 1901 года горе постигло их семью: от простуды умерла в возрасте 1 года и 10 месяцев их дочь Ольга. Похоронили малютку в церковной ограде, обряд погребения совершили священник поселка Переволоцкого Николай Шалфицкий и псаломщик храма Покрова Пресвятой Богородицы Александр Коссинский. Место упокоения неизвестно.
В церковной ограде, за алтарём, нашли свой последний приют пять священнослужителей. Известны имена четверых: протоиерей Александр, протоиерей Иоанн, иерей Александр и протоиерей Феодор, отошедший ко Господу 4 июля 1952 года.
Трагична судьба диакона Валентина Николаевича Аполлонова, прибывшего на служение в 1898 году. Едва успев с супругой Анастасией Николаевной порадоваться рождению 18 декабря 1898 года сына Бориса, (воспреемник: воспитанник 4 класса Духовной Семинарии Леонид Николаевич Аполлонов - брат дьякона), он, 4 января 1899 года, в возрасте 22 лет скончался от горячки.
С 1903 по 1905 годы настоятелем был Михаил Прибытков. Спустя годы, в 1918-м, уже в селе Преображенка, он принял мученическую кончину. Красноармейцы вывели его на задний двор церкви и расстреляли, потешаясь над тем, как израненный священник несколько раз пытался встать... Убедившись, что, наконец, о. Михаил мертв, его приволокли домой. Дети спрятались в сторожке и, после случившегося, той же ночью вернулись домой, но там расположились пьяные солдаты. Только чудом ребятам удалось скрыться под покровом ночной тишины и остаться незамеченными.
С 1905 по 1910 годы настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы служит Фёдор Покровский с матушкой Натальей и дьякон Георгий Войнов с женой Надеждой.
В 1906 году учителем в церковно-приходской школе был Михаил Щепанов. Он с таким усердием преподавал школьное пение, что устроил прекрасный церковный хор, за что прихожане выразили ему «искреннюю благодарность общим приговором», о чём писали даже «Оренбургские епархиальные ведомости». В годы лихолетья школу, построенную с такой любовью, сожгли красноармейцы.
В 1907 году в просфорной храма трудилась Прасковья Подьячева, Аким Милованов - церковным старостой.
С 1911 по 1917 годы настоятелем был Александр Никольский. Вместе с ним служил псаломщиком, а позже был рукоположен в диаконы Сергей Харлампиевич Коломытцев. 1 декабря 1937 года он был приговорён к высшей мере наказания. На момент ареста Сергей Коломытцев служил в другом приходе.
Тяжкие испытания выпали на долю храма и его прихожан в 20-30-е годы XX века. В архивах сохранились сведения о так называемом «деле Досифея» — движении «канонников», которое власти представили как контрреволюционную организацию. Верующие же собирались в кружки лишь для совместной молитвы, чтения Евангелия и житий святых. Храм Покрова в селе Верхняя Платовка оказался в центре этих событий: в сентябре 1929 года здесь, после ремонта, состоялся съезд движения, на который съехалось множество священнослужителей. Это послужило поводом для массовых арестов. Сотни верующих были осуждены, десятки — расстреляны.
Два настоятеля Покровского храма приняли мученический венец, будучи арестованными прямо со своего прихода:
1. Кузьма Николаевич Фролов, расстрелян 10 октября 1937 года.
2. Иаков Иванович Калашников, расстрелян 10 декабря 1937 года.
Оба они покоятся в Зауральной роще города Оренбурга, на земле, ставшей общей могилой для тысяч невинно убиенных.
Так, в истории одного сельского храма, как в капле воды, отразилась вся трагическая и великая история Русской Церкви XX века: народное строительство, тихая молитва, просвещение, а затем — гонения, кровь мучеников и исповедников. Но храм выстоял, сбережённый Покровом Пресвятой Богородицы, и по сей день является духовным сердцем этой земли.
Храму этому уже более ста тридцати лет, и само место это, старинное, намоленное, хранит в себе отголоски бесчисленных молитв. Он был заложен в 1893 году, а освящён 29 сентября 1896 года. Однако, как свидетельствуют старинные метрические книги, приход здесь сложился задолго до того, как были срублены первые венцы. История его богата, овеяна народными преданиями и даже легендами.
Одна из таких легенд, передаваемая из уст в уста, гласит, что на том самом месте, где ныне стоит алтарь, однажды ночью сама собой зажглась и горела свеча. Это чудо было воспринято как несомненное знамение свыше, как указание Самой Царицы Небесной на место для Её дома.
Имена зодчих, сотворивших это деревянное чудо, канули в Лету, но народная память сохранила предание о «пришлых умельцах» — переселенцах из Воронежской, Пензенской и других губерний, принёсших на оренбургскую землю своё искусство. Строился храм всем миром, на народные деньги. Жители окрестных сёл и деревень, освободившись от полевых работ, осенью и зимой спешили на стройку, чтобы внести свою лепту. В один из годов случился небывалый урожай зерна; его продали, а на вырученные деньги закупили лучший лес, который подводами везли из Бузулукского уезда, из самой Колтубановки (ныне село Колтубанка Бузулукского района Оренбургской области).
Щедры были и пожертвования. Сохранилась в народе история о жителе Верхней Платовки по фамилии Милованов. Он пригнал к строящемуся храму двух своих лучших быков и устроил аукцион. Когда же была названа последняя, самая высокая цена, он, к изумлению всех, объявил, что жертвует эту сумму на храм, а быков, свою гордость, увёл обратно домой. Доподлинно известно и о пожертвовании оренбургского купца Алексея Ивановича Зарывнова, который в 1893 году был удостоен за свою щедрость Архипастырского благословения от митрополита Макария.
Из оставшегося от строительства леса было решено построить рядом церковно-приходскую школу, дабы дети с малых лет учились грамоте и Закону Божьему.
Метрические книги сохранили для нас имена первых священнослужителей, чьи судьбы оказались навеки вплетены в историю храма:
1. Иоанн Преображенский (1884 г.)
2. Василий Зверев (1892 г.)
3. Афанасий Китаев (1893 г.), с матушкой Натальей Васильевной. 10 января 1894 г. родилась у них дочь Валентина.
4. Иоанн Страхов (1894 г.)
5. Михаил Сильвестров (1897 г.) (стаж службы к этому времени 18 лет).
6. Георгий Пономарёв (1898-1903 гг.), с матушкой Надеждой Николаевной. 28 апреля 1901 года горе постигло их семью: от простуды умерла в возрасте 1 года и 10 месяцев их дочь Ольга. Похоронили малютку в церковной ограде, обряд погребения совершили священник поселка Переволоцкого Николай Шалфицкий и псаломщик храма Покрова Пресвятой Богородицы Александр Коссинский. Место упокоения неизвестно.
В церковной ограде, за алтарём, нашли свой последний приют пять священнослужителей. Известны имена четверых: протоиерей Александр, протоиерей Иоанн, иерей Александр и протоиерей Феодор, отошедший ко Господу 4 июля 1952 года.
Трагична судьба диакона Валентина Николаевича Аполлонова, прибывшего на служение в 1898 году. Едва успев с супругой Анастасией Николаевной порадоваться рождению 18 декабря 1898 года сына Бориса, (воспреемник: воспитанник 4 класса Духовной Семинарии Леонид Николаевич Аполлонов - брат дьякона), он, 4 января 1899 года, в возрасте 22 лет скончался от горячки.
С 1903 по 1905 годы настоятелем был Михаил Прибытков. Спустя годы, в 1918-м, уже в селе Преображенка, он принял мученическую кончину. Красноармейцы вывели его на задний двор церкви и расстреляли, потешаясь над тем, как израненный священник несколько раз пытался встать... Убедившись, что, наконец, о. Михаил мертв, его приволокли домой. Дети спрятались в сторожке и, после случившегося, той же ночью вернулись домой, но там расположились пьяные солдаты. Только чудом ребятам удалось скрыться под покровом ночной тишины и остаться незамеченными.
С 1905 по 1910 годы настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы служит Фёдор Покровский с матушкой Натальей и дьякон Георгий Войнов с женой Надеждой.
В 1906 году учителем в церковно-приходской школе был Михаил Щепанов. Он с таким усердием преподавал школьное пение, что устроил прекрасный церковный хор, за что прихожане выразили ему «искреннюю благодарность общим приговором», о чём писали даже «Оренбургские епархиальные ведомости». В годы лихолетья школу, построенную с такой любовью, сожгли красноармейцы.
В 1907 году в просфорной храма трудилась Прасковья Подьячева, Аким Милованов - церковным старостой.
С 1911 по 1917 годы настоятелем был Александр Никольский. Вместе с ним служил псаломщиком, а позже был рукоположен в диаконы Сергей Харлампиевич Коломытцев. 1 декабря 1937 года он был приговорён к высшей мере наказания. На момент ареста Сергей Коломытцев служил в другом приходе.
Тяжкие испытания выпали на долю храма и его прихожан в 20-30-е годы XX века. В архивах сохранились сведения о так называемом «деле Досифея» — движении «канонников», которое власти представили как контрреволюционную организацию. Верующие же собирались в кружки лишь для совместной молитвы, чтения Евангелия и житий святых. Храм Покрова в селе Верхняя Платовка оказался в центре этих событий: в сентябре 1929 года здесь, после ремонта, состоялся съезд движения, на который съехалось множество священнослужителей. Это послужило поводом для массовых арестов. Сотни верующих были осуждены, десятки — расстреляны.
Два настоятеля Покровского храма приняли мученический венец, будучи арестованными прямо со своего прихода:
1. Кузьма Николаевич Фролов, расстрелян 10 октября 1937 года.
2. Иаков Иванович Калашников, расстрелян 10 декабря 1937 года.
Оба они покоятся в Зауральной роще города Оренбурга, на земле, ставшей общей могилой для тысяч невинно убиенных.
Так, в истории одного сельского храма, как в капле воды, отразилась вся трагическая и великая история Русской Церкви XX века: народное строительство, тихая молитва, просвещение, а затем — гонения, кровь мучеников и исповедников. Но храм выстоял, сбережённый Покровом Пресвятой Богородицы, и по сей день является духовным сердцем этой земли.
12.10.2025 14:25
Та, что прядёт туман. Последний поцелуй в Нави.
Есть миры, мой друг, что лежат за гранью нашего зрения, сотканные из лунного света и теней. Один из таких — Навь, изнанка нашего Явного мира. Это не пекло и не рай, но край вечных сумерек, где души усопших ждут своего часа, а древние сущности дремлют в туманах. И стоит на границе этих миров, в лесу, где деревьям нет имён, избушка на курьих ногах. А хозяйка в ней — Яга, костяная нога.
Но не злобная она старуха, как в сказках сказывают, а стражница и проводница. Не всякая душа находит путь в Навь сама. Иные, отягощённые горем или обидой, блуждают меж мирами, становясь призраками. Другие, что жили неправедно, цепляются за Явь, не желая отпускать. И вот для таких и существует Яга. Она — та, кто помогает душе завершить земной путь и перейти грань.
И вот однажды в Яви, в стародавние времена в одном из княжеств, случилось горе. Молодой княжич Всеволод, храбрый и добрый, пал отравленной стрелой на охоте. Но душа его не ушла в Навь. Удержала её на земле великая печаль и клятва, данная невесте своей, Софье: «Никогда тебя не покину». И стал он являться во дворце бесплотным духом, холодным ветром шелестеть в покоях, пугая челядь и иссушая слезами свою наречённую.
Прослышала про то Софья, что есть в лесу ведунья, которая с душами говорить умеет. Собрала она в узелок краюху хлеба, надела простой сарафан и пошла в чащу, куда и волки боятся забредать. Долго ли, коротко ли шла, но вывели её тропки к избушке. «Избушка-избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!» — молвила она, как в сказках учили.
Заскрипела изба, повернулась. А на пороге стоит Яга — сухая, древняя, как сам лес, а глаза — два колодца, в которых звёзды отражаются. «Знаю, зачем пришла, девица. За душой заблудшей. Тяжко ему, и тебе не легче. Но нельзя мёртвым среди живых оставаться. Нарушен порядок».
«Что же мне делать, бабушка?» — со слезами спросила Софья.
«Ты должна сама его отпустить, — отвечала Яга. — Но для этого надобно тебе ступить на тропу в Навь. Путь опасный, ибо мир тот не для живых. Но я проведу. Готова ли?»
Кивнула Софья. Взяла Яга костяной посох, стукнула им трижды оземь. И лес вокруг изменился. Краски поблекли, воздух стал густым и холодным, а под ногами вместо мха зашелестели сухие листья времён. Они вошли в Навь.
Шли они по тропе, что вилась меж серых деревьев. Вокруг мелькали тени — души, что уже нашли свой покой. Они не видели живую девушку. Но были и другие. Из тумана тянулись к Софье руки обид, шептали голоса несбывшихся желаний. Это были те, кто застрял на пути. Но Яга шла впереди, и её посох отгонял их, расчищая дорогу.
Наконец, вышли они на поляну, залитую призрачным светом. И посреди поляны стоял Всеволод. Он был таким же, как в жизни, только сотканным из дымки. Увидев Софью, он протянул к ней руки: «Софья! Ты пришла! Я же клялся, что не покину тебя!»
«Всеволод, любимый мой, — прошептала девушка, и слёзы катились по её щекам, но здесь, в Нави, они были невидимы. — Твоя клятва держит тебя здесь и мучает. Ты должен идти дальше. А я... я буду помнить тебя всегда. Наша любовь не умрёт, но ты должен быть свободен. Я отпускаю тебя».
И в этих словах была такая сила, такая чистота, что цепи, державшие душу княжича, рассыпались в прах. Фигура его стала светлее, прозрачнее. Он улыбнулся ей в последний раз, и улыбка эта была полна благодарности и покоя. А потом лёгкий ветерок подхватил его и унёс вглубь Нави, к другим душам, нашедшим свой путь.
Софья упала бы без сил, но Яга подхватила её. «Ты сделала то, что должна была, дитя. Теперь возвращайся в свой мир и живи. Живи за двоих». И снова стукнул посох, и снова мир обрёл краски и тепло.
Вернулась Софья домой, и хоть сердце её было полно печали, но печаль эта была светлой. А Яга осталась на границе миров, в своей избушке, ждать, когда снова понадобится её помощь заблудшей душе. Ведь она не зло и не добро. Она — равновесие.
Но не злобная она старуха, как в сказках сказывают, а стражница и проводница. Не всякая душа находит путь в Навь сама. Иные, отягощённые горем или обидой, блуждают меж мирами, становясь призраками. Другие, что жили неправедно, цепляются за Явь, не желая отпускать. И вот для таких и существует Яга. Она — та, кто помогает душе завершить земной путь и перейти грань.
И вот однажды в Яви, в стародавние времена в одном из княжеств, случилось горе. Молодой княжич Всеволод, храбрый и добрый, пал отравленной стрелой на охоте. Но душа его не ушла в Навь. Удержала её на земле великая печаль и клятва, данная невесте своей, Софье: «Никогда тебя не покину». И стал он являться во дворце бесплотным духом, холодным ветром шелестеть в покоях, пугая челядь и иссушая слезами свою наречённую.
Прослышала про то Софья, что есть в лесу ведунья, которая с душами говорить умеет. Собрала она в узелок краюху хлеба, надела простой сарафан и пошла в чащу, куда и волки боятся забредать. Долго ли, коротко ли шла, но вывели её тропки к избушке. «Избушка-избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!» — молвила она, как в сказках учили.
Заскрипела изба, повернулась. А на пороге стоит Яга — сухая, древняя, как сам лес, а глаза — два колодца, в которых звёзды отражаются. «Знаю, зачем пришла, девица. За душой заблудшей. Тяжко ему, и тебе не легче. Но нельзя мёртвым среди живых оставаться. Нарушен порядок».
«Что же мне делать, бабушка?» — со слезами спросила Софья.
«Ты должна сама его отпустить, — отвечала Яга. — Но для этого надобно тебе ступить на тропу в Навь. Путь опасный, ибо мир тот не для живых. Но я проведу. Готова ли?»
Кивнула Софья. Взяла Яга костяной посох, стукнула им трижды оземь. И лес вокруг изменился. Краски поблекли, воздух стал густым и холодным, а под ногами вместо мха зашелестели сухие листья времён. Они вошли в Навь.
Шли они по тропе, что вилась меж серых деревьев. Вокруг мелькали тени — души, что уже нашли свой покой. Они не видели живую девушку. Но были и другие. Из тумана тянулись к Софье руки обид, шептали голоса несбывшихся желаний. Это были те, кто застрял на пути. Но Яга шла впереди, и её посох отгонял их, расчищая дорогу.
Наконец, вышли они на поляну, залитую призрачным светом. И посреди поляны стоял Всеволод. Он был таким же, как в жизни, только сотканным из дымки. Увидев Софью, он протянул к ней руки: «Софья! Ты пришла! Я же клялся, что не покину тебя!»
«Всеволод, любимый мой, — прошептала девушка, и слёзы катились по её щекам, но здесь, в Нави, они были невидимы. — Твоя клятва держит тебя здесь и мучает. Ты должен идти дальше. А я... я буду помнить тебя всегда. Наша любовь не умрёт, но ты должен быть свободен. Я отпускаю тебя».
И в этих словах была такая сила, такая чистота, что цепи, державшие душу княжича, рассыпались в прах. Фигура его стала светлее, прозрачнее. Он улыбнулся ей в последний раз, и улыбка эта была полна благодарности и покоя. А потом лёгкий ветерок подхватил его и унёс вглубь Нави, к другим душам, нашедшим свой путь.
Софья упала бы без сил, но Яга подхватила её. «Ты сделала то, что должна была, дитя. Теперь возвращайся в свой мир и живи. Живи за двоих». И снова стукнул посох, и снова мир обрёл краски и тепло.
Вернулась Софья домой, и хоть сердце её было полно печали, но печаль эта была светлой. А Яга осталась на границе миров, в своей избушке, ждать, когда снова понадобится её помощь заблудшей душе. Ведь она не зло и не добро. Она — равновесие.
11.10.2025 15:12
Земля, где ветер помнит имена... (Предисловие)
Есть на земле места, где ветер степей до сих пор шепчет былины о днях минувших, а в глазах людей, словно в чистых озёрах, отражается небо прадедов. Чтобы услышать этот шёпот и заглянуть в эти глаза, не нужно спешить. Остановитесь. Закройте на миг свои и представьте...
Представьте бескрайний простор, где вдоль извилистой речки Самары, под сенью могучих серебристых тополей, некогда родилась деревня. Её первое имя, Сокорявка, было таким же певучим, как шелест листвы её хранителей. Здесь, у подножия Золотой горы, из-под земли бил студеный родник, а во дворах скрипел ворот колодца, даруя людям воду, чистую, как их помыслы.
Эта книга — путешествие во времени. Мы пройдём по пыльным улочкам деревни Мамалаевки, вдохнём медовый аромат разнотравья и свежескошенного сена, увидим, как волнуются золотые моря ржи и пшеницы под рукой трудолюбивого крестьянина. Мы станем свидетелями того, как история, подобно быстрой реке, меняет судьбы: как вчерашние пахари, поверстанные в казаки, принимают на себя новую долю — быть стражами Отечества. Как простая деревня становится сперва посёлком, а затем и гордой казачьей станицей.
Но главное, мы вглядимся в лица людей. В их голубых, как степное небо, глазах мы прочтём и тяготы долгого пути, и радость обретения дома, и несгибаемую волю, и безграничную любовь к этой земле. Мы увидим, как в горниле труда и служения выковывался тот особый, неповторимый характер, что передавался из поколения в поколение.
Откройте же эту страницу, читатель, и позвольте истории ожить. Пусть она унесёт вас в те времена, когда честь была дороже жизни, слово — крепче стали, а в сердце каждого жила простая и великая правда родной земли.
Представьте бескрайний простор, где вдоль извилистой речки Самары, под сенью могучих серебристых тополей, некогда родилась деревня. Её первое имя, Сокорявка, было таким же певучим, как шелест листвы её хранителей. Здесь, у подножия Золотой горы, из-под земли бил студеный родник, а во дворах скрипел ворот колодца, даруя людям воду, чистую, как их помыслы.
Эта книга — путешествие во времени. Мы пройдём по пыльным улочкам деревни Мамалаевки, вдохнём медовый аромат разнотравья и свежескошенного сена, увидим, как волнуются золотые моря ржи и пшеницы под рукой трудолюбивого крестьянина. Мы станем свидетелями того, как история, подобно быстрой реке, меняет судьбы: как вчерашние пахари, поверстанные в казаки, принимают на себя новую долю — быть стражами Отечества. Как простая деревня становится сперва посёлком, а затем и гордой казачьей станицей.
Но главное, мы вглядимся в лица людей. В их голубых, как степное небо, глазах мы прочтём и тяготы долгого пути, и радость обретения дома, и несгибаемую волю, и безграничную любовь к этой земле. Мы увидим, как в горниле труда и служения выковывался тот особый, неповторимый характер, что передавался из поколения в поколение.
Откройте же эту страницу, читатель, и позвольте истории ожить. Пусть она унесёт вас в те времена, когда честь была дороже жизни, слово — крепче стали, а в сердце каждого жила простая и великая правда родной земли.
05.10.2025 21:13
©2025 Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Копирование запрещено!